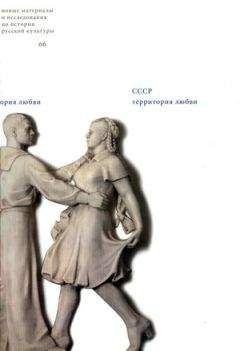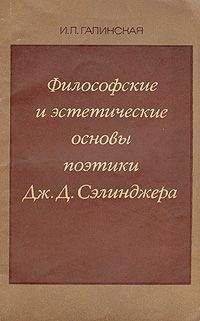Марк Липовецкий - Паралогии

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Паралогии"
Описание и краткое содержание "Паралогии" читать бесплатно онлайн.
Новая книга М. Липовецкого представляет собой «пунктирную» историю трансформаций модернизма в постмодернизм и дальнейших мутаций последнего в постсоветской культуре. Стабильным основанием данного дискурса, по мнению исследователя, являются «паралогии» — иначе говоря, мышление за пределами норм и границ общепринятых культурных логик. Эвристические и эстетические возможности «паралогий» русского (пост)модернизма раскрываются в книге прежде всего путем подробного анализа широкого спектра культурных феноменов: от К. Вагинова, О. Мандельштама, Д. Хармса, В. Набокова до Вен. Ерофеева, Л. Рубинштейна, Т. Толстой, Л. Гиршовича, от В. Пелевина, В. Сорокина, Б. Акунина до Г. Брускина и группы «Синие носы», а также ряда фильмов и пьес последнего времени. Одновременно автор разрабатывает динамическую теорию русского постмодернизма, позволяющую вписать это направление в контекст русской культуры и определить значение постмодернистской эстетики как необходимой фазы в историческом развитии модернизма.
Однако с Мак-Хейлом резко не согласен Д. Фоккема:
Само слою «онтология» ассоциируется с традиционной философией, с серьезным и эксплицитным отражением бытия — что мало характерно для постмодернистской словесности. Более того, вопросы типа «Какие это миры?» не могут исключить эпистемологического подхода. Постмодернистская литература представляется эпистемологической в той же степени, в какой ее можно назвать «онтологической», или же столь же незначительно онтологической, сколь [незначительно] и эпистемологической… Писатели-постмодернисты отказались от поиска сущностей, включая экзистенциальную истину. Их больше не интересуют онтологические проблемы[103].
Позиция Фоккемы особенно любопытна, поскольку именно он (в соавторстве с Э. Ибшем) впервые обосновал саму идею эпистемологической неопределенности модернизма. Речь в работе этих исследователей шла о том, что автор-модернист всегда осознает «врёменную и гипотетическую природу своих воззрений и представлений»[104], подвергая создаваемую картину жизни разносторонней проблематизации, непрерывно релятивизируя любой образ мира. Но и сегодня Фоккема не отказывается от прежних воззрений, а скорее уточняет их, имея в виду перспективу постмодернизма: «Модернизм в первую очередь характеризуется эпистемологическим сомнением… в модернизме все сущности подвергаются критике, а всякая новая форма повествования, как и всякий литературный прием, вызывает глубочайшее сомнение… В экзистенциалистской литературе эпистемологическое сомнение перерастает в моральную и онтологическую тревогу. Именно здесь модернизм достигает точки, после которой уже невозможно обратное движение»[105]. Космическое отчаяние экзистенциализма оказывается, по мысли ученого, высшей и последней фазой модернизма. Постмодернизм — в европейской культуре, уточним мы — возникает именно как «отрицание модернистского отрицания», как неожиданный отказ от логически неизбежного отчаяния: «Если „ничего изменить нельзя“, то зачем же кончать с собой? Можно с равным успехом решить жить дальше, забыв об эпистемологических и моральных сомнениях, игнорируя онтологические вопросы; можно не пытаться рассказать убедительную историю (раз это все равно невозможно), а просто рассказывать что-нибудь… Это объяснение различий между модернизмом и постмодернизмом я нахожу самым убедительным», — пишет Фоккема[106].
Такая интерпретация постмодернизма предполагает, что он основан на сознании, в принципе бестрагедийном. Естественной основой для такой интерпретации постмодернизма является многократно обсуждавшаяся гипотеза о генетической связи постмодернизма с карнавальной культурой Средневековья и Нового времени. В карнавале — во всяком случае, в том его понимании, которое развивал М. М. Бахтин, — смерть, унижение, страдание и даже преисподняя включены в бесконечный и веселый круговорот жизни, освобождающий от «гнета таких мрачных категорий, как „вечное“, „незыблемое“, „абсолютное“, „неизменное“. Им противопоставлялся веселый и вольный смеховой аспект мира с его незавершенностью и открытостью, с его радостью смен и обновлений»[107]. Говоря о бахтинской теории карнавального смеха, Драган Куюнжич отмечает: «Бесспорно, мы имеем здесь дело с критикой левоцентризма; смех — это действо, перформанс, расщепляющий, удваивающий, высмеивающий и деконструирующий присутствие логоса… Хронотоп мениппеи — место встречи Бахтина и Деррида»[108]. Связь постмодернизма с карнавальной традицией достаточно подробно обоснована Б. Мак-Хейлом[109], о мениппее как о метажанре постмодернизма писал и я[110].
В сущности, такой взгляд вытекает из логики постмодернистской деконструкции, описанной Жаком Деррида: то, что в классической и даже в модернистской культуре реализуется через конфликты бинарных оппозиций, в свою очередь порождаемых метафизикой присутствия — Центра, Истины, Бытия, Смысла, Свободы и т. п., — в постмодернизме сменяется свободной игрой (freeplay) означающих, чье значение постоянно меняется в процессе этой игры[111].
Эта модель не оставляет места для трагедии. Прежде всего потому, что снимает с субъекта вину за совершающуюся катастрофу: в игре означающих не может быть виноватых. Но «герой трагедии действительно виновен. Вина — это его raison d’être. Тогда как в мелодраме мы отождествляем себя — как это ни смешно! — с невинностью и как бы живем под постоянной угрозой злодейства других людей, в трагедии мы отождествляем себя с виной…»[112].
Но легко видеть, что даже такой классический для русского постмодернизма текст, как поэма «Москва — Петушки», при ее откровенной карнавальности одновременно является одной из самых трагических книг в русской литературе XX века, поскольку ее герой и повествователь предстает виновным в собственной гибели[113]. Аналогичным образом ерофеевская «трагедия в пяти актах» «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» может быть прочитана как пародия на карнавал, превращающая игру в трагедию: «Мало вам было крематориев!.. Всех ведь опоил, сссрань еврейская!.. Ослеп, говоришь? сссучье вымя!»[114] — этими, отнюдь не карнавальными, проклятьями и страшным избиением умирающего и ослепшего Эдипа — карнавального шута и трикстера Гуревича — завершается карнавал «Вальпургиевой ночи». Пример Ерофеева не единичен: трагические обертоны отчетливо звучат в первых двух романах Саши Соколова, в «новом автобиографизме» Довлатова и в исторических фантазиях В. Шарова, в поэзии Иосифа Бродского, Игоря Холина, Елены Шварц, Виктора Кривулина, Александра Еременко; приглушенно («апофатически» — сказал бы М. Эпштейн) трагизм прорывается и в «стихах на карточках» Льва Рубинштейна, и даже в детективах Б. Акунина. Казалось бы, это свидетельствует о незрелости русского постмодернизма и связано с незавершенностью модернистской динамики в русской культуре, однако трудно не заметить явного трагизма и в таких этапных для западного постмодернизма произведениях, как «Лолита» и «Ада» В. Набокова, «Имя розы» и «Маятник Фуко» У. Эко, «Игра в классики» X. Кортасара и «Хазарский словарь» М. Павича.
Вероятно, здесь необходимы другие объяснения.
Между логоцентризмом и литературоцентризмом
Многие российские критики с готовностью отождествили европейский логоцентризм, деконструируемый в научных и художественных сочинениях западных постмодернистов, с литературоцентризмом, деконструируемым русским постмодернизмом. Однако, на мой взгляд, такое отождествление глубоко ошибочно. Примечательно, что в появившихся в 90-е годы отечественных монографиях о постмодернизме (Н. Маньковская[115], И. Скоропанова[116]) обширные пересказы теорий Ж. Деррида, Ж. Делёза и Ф. Гваттари, Ж. Лакана, Ж. Бодрийяра и других классиков постструктуралистской мысли фактически никак не коррелируют с анализами литературных текстов русских постмодернистов — «мухи отдельно, котлеты отдельно». Причина тому — не в слабом знакомстве с западными теориями (авторы упомянутых книг демонстрируют впечатляющую эрудицию), а в «сопротивлении материала», не поддающегося адекватному прочтению в координатах постструктуралистской методологии.
М. Мак-Куиллан в предисловии к авторитетной антологии «Деконструкция» избегает однозначного определения главного объекта деконструкции — логоцентрической культурной парадигмы. Однако он выделяет три важнейших характеристики логоцентризма: во-первых, мышление, подчиненное логике бинарных оппозиций, в которой один из членов обладает привилегированным положением, а другой репрессирован (рациональное/иррациональное, мужское/женское, прогрессивное/отсталое, порядок/хаос, культура/природа и т. п.); во-вторых, представление в произведениях фиксированного, единого и авторитарного центра (трансцендентального означаемого); в-третьих, концепция личности как совокупности стабильных и «сущностных» характеристик, определяемых отношением к полюсам бинарных оппозиций и к трансцендентальному центру[117]. Отсюда вытекает и разработанная Ж. Деррида логика деконструкции, которая, во-первых, обнажает асимметрию и оспаривает иерархию членов бинарных оппозиций, формируемую тем или иным текстом или дискурсом; во-вторых, выводит на поверхность противоречия, репрессируемые данной иерархией («неразрешимости», апории); в-третьих, сосредоточивается на этих неразрешимостях и переводит отношения между сторонами оппозиций в неиерархическое пространство игры между неопределенными, множественными, конфликтующими значениями и интерпретациями, продуцируемыми текстом.
Иначе говоря, постмодернистская атака на логоцентризм, особенно в искусстве, не может быть сведена к анархическому или нигилистическому бунту против любых попыток символического упорядочивания: на практике постмодернизм перестраивает бинарные и иерархические порядки традиционной культуры в более сложные, но и менее устойчивые формы символической организации, порождая динамические, неиерархические, небинарные, неустойчивые, гибридные, открыто противоречивые и авторефлективные «порядки», строящиеся на игре означающих и объединенные отказом от «трансцендентальных означаемых» как неизбежного источника репрессии.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Паралогии"
Книги похожие на "Паралогии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Марк Липовецкий - Паралогии"
Отзывы читателей о книге "Паралогии", комментарии и мнения людей о произведении.