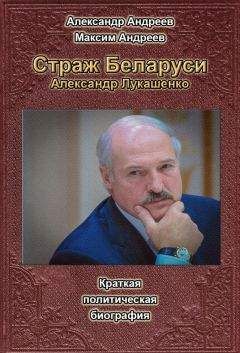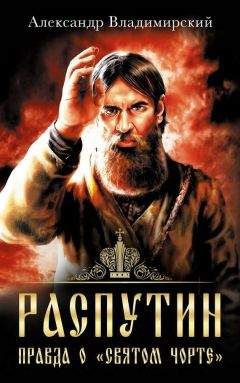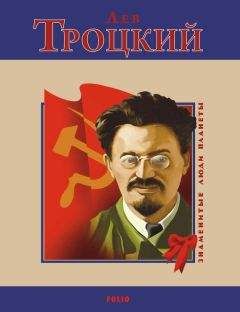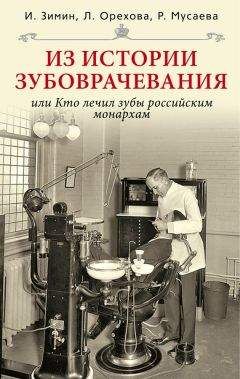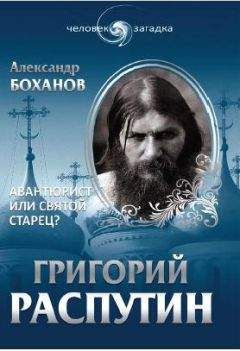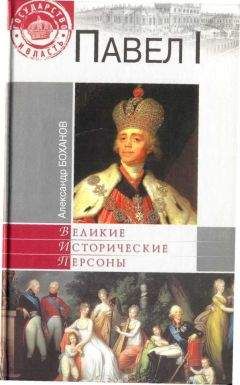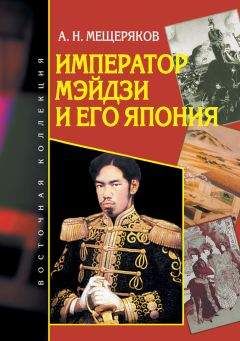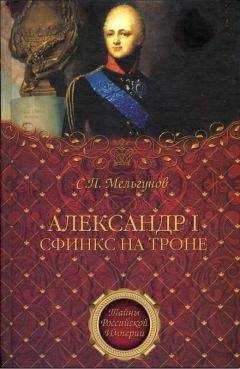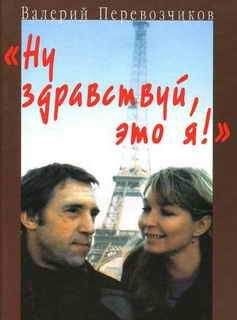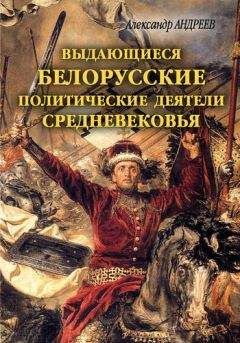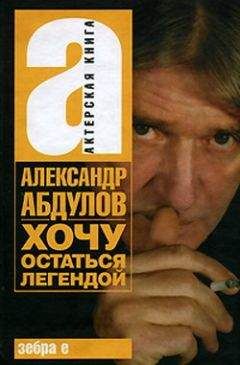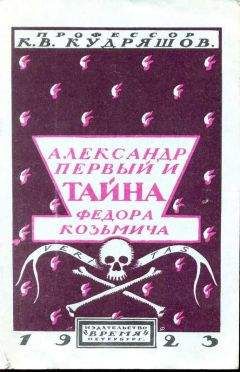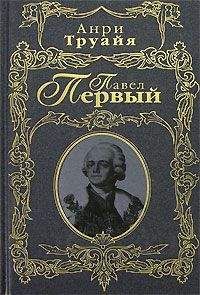Всеволод Глуховцев - Александр Первый: император, христианин, человек

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Александр Первый: император, христианин, человек"
Описание и краткое содержание "Александр Первый: император, христианин, человек" читать бесплатно онлайн.
Император Александр I – одна из самых странных, загадочных, возможно, одна из самых недооцененных фигур отечественной истории… Отчасти, он сам, конечно, «виноват» в сотворении такой репутации о себе: был странным, сложным, скрытным человеком; несомненно, мог видеть и сознавать многое, честно искал правду, искренне поверил в Бога, свет веры хотел понести по Земле… и не сумел сделать почти ничего.
Монархам грех жаловаться на невнимание исследователей, и Александр Павлович не исключение. Библиография о нём огромна, дотошные люди прошлись по его жизни чуть ли не с хронометром, попутно описали судьбы других людей, так или иначе пересекшиеся с судьбой государя. Так стоит ли тысячу раз изученное, разложенное по полочкам и препарированное – изучать в тысячу первый?.. Стоит! Немалого стоит, если целью исследования сделать не анализ, а синтез, если постараться увидеть человеческое бытие не как отрезок времени, но как отражение вечности, как отзвук и предчувствие разных сторон истории.
Но главная причина была всё же в другом. К 1803 году Бонапарт попал в очень сложные внутриполитические обстоятельства: его возненавидели как революционеры, так и роялисты [сторонники прежней королевской династии Бурбонов – В.Г.]. Первые усмотрели в нём губителя тех идеалов, во имя которых когда-то штурмовали Бастилию, бушевали в Конвенте, дрались с интервентами… А для вторых, что бы он ни делал, Наполеон всё равно оставался исчадием кровавых беззаконий революции. Этот момент тонко уловили пращуры «Интеллидженс сервис»; успешная операция против Павла I в Петербурге, очевидно, воодушевила британских рыцарей тайных дел, и они с энтузиазмом взялись за новые происки, теперь в Париже.
Надо сказать, что действовала английская разведка довольно точно. Найти как в самой Франции, так и среди эмигрантов людей, ненавидевших Бонапарта, было не ахти каким трудом, но в том-то и дело, чтобы в такой ситуации сделать правильный выбор. У англичан вроде бы это получилось.
Беглых роялистов на острове обреталось предостаточно, и самым среди них подходящим показался некий Жорж Кадудаль, неотёсанный, грубоватый бретонец… В английской тайной службе подобрались, надо полагать, люди очень терпеливые, потому что с Кадудалем всё выходило не просто – суровый, недалёкий, он не собирался вникать в хитроумные тонкости романтики «плаща и кинжала»; но зато настолько ненавидел революцию, не разбираясь, кто там якобинец, кто жирондист, кто бонапартист, что всем им у него был готов один вердикт: смерть [64, 119]
Этот самый Кадудаль стал, так сказать, правым флангом атаки на Бонапарта. Левый же фланг сыскался в самом Париже: знаменитый генерал Виктор Моро, в своё время с Наполеоном соперничавший – слава двух революционных полководцев гремела по всей Франции. Моро был так же честолюбив и так же мог претендовать на роль диктатора – но вот, судьба почему-то решила улыбнуться корсиканцу.
Англичане верно оценили ущемлённое честолюбие генерала. Кадудаль тайно прибыл в Париж, механизм заговора начал работать…
Но на том английские успехи и кончились. В Париже всё как-то сразу не пошло на лад. Роялист Кадудаль и революционер Моро, сходясь в жестокой нелюбви к «господину первому консулу», расходились во всём остальном, и один с другим категорически не поладили. А кроме того, если полиция Петербурга была в руках заговорщика Палена, то контрразведка Наполеона работала на него и работала превосходно.
Наполеон умел подбирать кадры: абсолютных циников, не стеснявших себя никакими нравственными принципами. Правда, пришло время, и они хладнокровно его продали – но до того было ещё далеко. Пока же Наполеон был для них выгодным хозяином, они служили ему – а уж трудиться-то они умели как никто другой… Таков был министр иностранных дел Шарль Талейран (кстати говоря, воспитанник иезуитской коллегии!), таков был и министр полиции Жозеф Фуше.
Агентурная сеть Фуше бесперебойно и чётко давала ему информацию, а он, разумеется, докладывал всё первому консулу; так очень скоро стало известно о Кадудале и Моро. Фигуранты оказались под колпаком, а в феврале 1804 года – в тюрьме.
Дальнейшее расследование, собственно, подтвердило то, что подозревалось с самого начала. Английские «уши» торчали из заговора, видимые невооружённым глазом, а у Бонапарта и Фуше глаза были вооружены, да ещё как… Эти глаза усмотрели в происходящем, наряду с английским влиянием также и происки Бурбонов, в частности, герцога Энгиенского, представителя так называемого дома Конде (боковой ветви династии).
Здесь – сумерки и загадки. Как обнаружилось впоследствии, никакого отношения к заговору герцог не имел. То ли у следствия оказались ложные данные, то ли кто-то сознательно ввёл Наполеона в заблуждение, то ли сам Наполеон решил пожертвовать невиновным человеком ради политической цели – припугнуть Бурбонов?.. Всё это так и осталось невыясненным. Мы не знаем причин, знаем лишь результат: герцог Энгиенский был грубейшим образом, с нарушением всяких правовых норм арестован, а через несколько дней расстрелян.
Герцог жил эмигрантом в Баденском герцогстве (родина русской императрицы Елизаветы Алексеевны). Французский военный отряд вторгся туда, схватил жертву и удалился восвояси – а тесть Александра и его министры в это время сидели по домам, не смея носа высунуть на улицу [64, 122]… Прочие европейские монархи были возмущены, однако возмущение своё изливали вполголоса или даже шёпотом; и лишь русский царь возвысил голос сполна: он выразил официальный протест главе Французской республики, первому консулу – за невиданное и неслыханное попрание международного права.
Ответ Наполеона – а точнее, Талейрана, ибо именно этот деятель стал главным вдохновителем данного документа – сделался легендарным. Французская республика ответила императору Александру I, что если бы он знал, кто убийцы его отца (если бы знал! – едко говорилось в ноте) и ради их наказания нарушил бы какую-то границу, то господин первый консул, сочувствуя сыновнему горю императора, протестовать не стал бы.
Это было ужасное оскорбление. На официальном уровне вся Европа говорила исключительно об «апоплексическом ударе», строго соблюдая обязательное дипломатическое ханжество; даже английский посол Витворт выражал соболезнования в связи с этим грустным диагнозом. Александру было как ножом по сердцу слышать всякое упоминание о смерти отца – и можно представить, что он ощутил, прочитав злоязычную отповедь из Парижа…
Нередко приходится встречать мнение, что жестоко уязвлённый царь потом только и мстил Бонапарту; едва ли не всю жизнь принёс на алтарь этого мщения, и успокоился, лишь когда со врагом было покончено. И уж, разумеется, это стало главным мотивом вступления России в Третью антифранцузскую коалицию. В этом известная доля истины, бесспорно, есть, но не очень большая: при очевидных экзистенциальных наклонностях Александр душевным мазохистом не был. Да и ничего особо не помешало ему потом лобызаться с Наполеоном… Разумеется, он при этом артистически скрывал свои чувства – но вот как раз это лицедейство, свидетельствующее о холодноватом политическом прагматизме, и позволяет сомневаться в безрассудной экспансивности Александра. Мотив оскорблённого чувства – да, был. Но был не единственным. И даже не главным.
В какой-то момент императору стало ясно, что схватки между Францией и практически всей Европой (во французских союзниках числилась только Испания) не избежать. Не исключено, что при неких иных обстоятельствах русский государь не побрезговал бы подружиться с Бонапартом – что формально позже-то и случилось; но в 1804 году обстоятельства иными не оказались. Наверняка Александр предпочёл бы, чтоб они сложились и не «pro», и не «contra», а по-третьему: чтобы войны вовсе не было. Однако, так они сложиться не могли.
Причины, побудившие императора ко вступлению в коалицию, являли собою сложный внешне– и внутриполитический комплекс. Несмотря на удаление Зубовых, проанглийское лобби в Петербурге оставалось очень сильным, ибо зиждилось на прочном экономическом базисе. Значительной части русского дворянства были чрезвычайно выгодны торговые отношения с Британским королевством – там охотно покупали наши сельхозпродукты – и найти в России мощный потенциал сочувствия англичанам не составляло труда. Тем более, что в 1804 году Эддингтона на посту премьер-министра обратно сменил вездесущий Питт.
Наполеон взялся за Англию всерьёз, именно в ней увидя главнейшую опасность для себя. В общем-то, в данной оценке он не ошибался, правда, затем антианглийская тенденция переросла у него в манию, исказившую взор, мешавшую адекватному восприятию обстановки и, соответственно, приведшую к фатальным просчётам… Но это произошло позже, а тогда Наполеон оценил ситуацию верно. В Булони, на побережье Ла-Манша он быстро и поразительно эффективно организовал военный лагерь для переброски войск на острова.
Любопытный факт: Наполеон, вообще с большим любопытством относившийся к техническим новинкам, в этом Булонском лагере начал эксперименты с воздушными шарами в качестве десантных средств – наверное, это были первые военно-воздушные силы в мире… Из затеи, правда, ничего реального не вышло, но приоритет был зафиксирован.
В Англии Бонапартовы маневры вызвали понятный шок. Затем разнёсся патриотический призыв сколачивать ополчение, правда, в этом было больше отчаянной бравады, чем здравого смысла: сладить с французами на суше не надеялись. Вот на море – другое дело; британский флот – это сила. Да и сама природа пришла на помощь англичанам: в конце лета 1805 года в восточной Атлантике устойчиво держалась погода, делавшая десантную операцию невозможной. Каждые сутки были на счету – Питт не жалел сил и денег, сколачивая коалицию.
Почти невероятно – но это ему удалось! Союз, впоследствии названный Наполеоном «сотканным из ненависти и золота» [64, 128], был скорее кое-как сбит наспех, нежели соткан, однако всё же был. Наверное, это был почти подвиг – премьер-министр, как позже выяснилось, надорвался на этой ниве. Но Англию он спас! Создал такие условия, при которых Австрия и Россия были вынуждены начать военные действия. Наполеону ничего не оставалось, как спешно перебрасывать войска из Булонского лагеря на восток, в Баварию.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Александр Первый: император, христианин, человек"
Книги похожие на "Александр Первый: император, христианин, человек" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Всеволод Глуховцев - Александр Первый: император, христианин, человек"
Отзывы читателей о книге "Александр Первый: император, христианин, человек", комментарии и мнения людей о произведении.