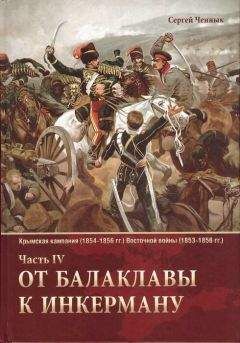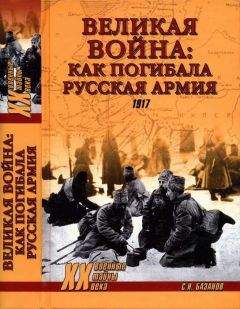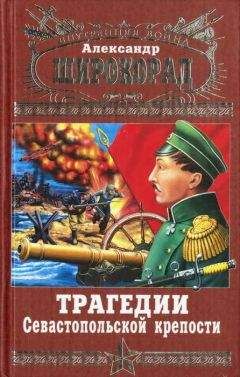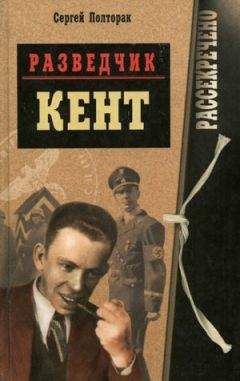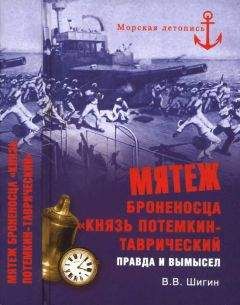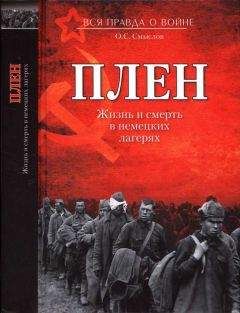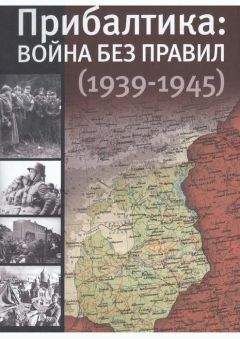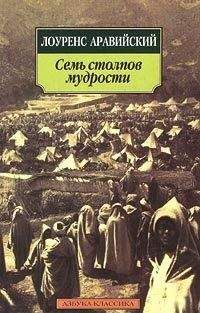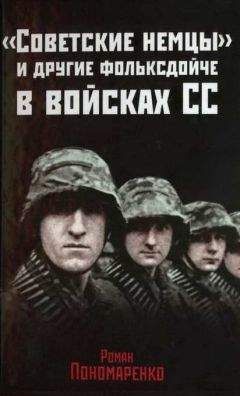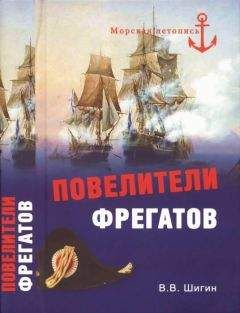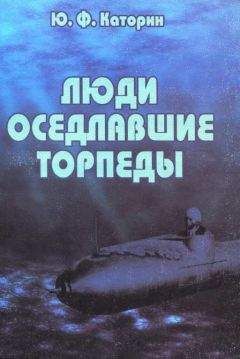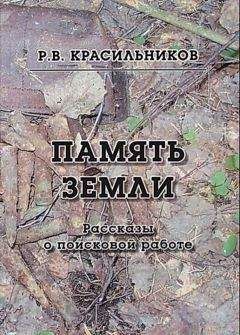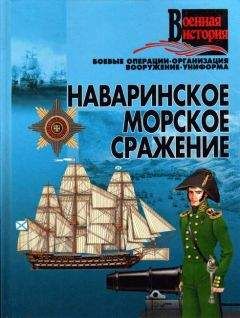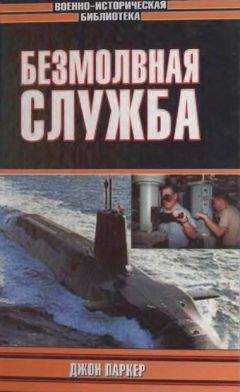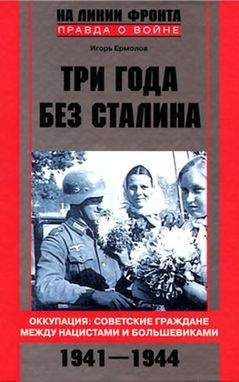Сергей Яров - Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
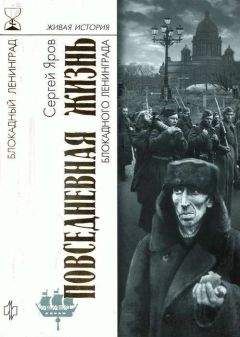
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Повседневная жизнь блокадного Ленинграда"
Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь блокадного Ленинграда" читать бесплатно онлайн.
Эта книга — рассказ о том, как пытались выжить люди в осажденном Ленинграде, какие страдания они испытывали, какую цену заплатили за то, чтобы спасти своих близких. Автор, доктор исторических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена и Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Викторович Яров, на основании сотен источников, в том числе и неопубликованных, воссоздает картину повседневной жизни ленинградцев во время блокады, которая во многом отличается от той, что мы знали раньше. Ее подробности своей жестокостью могут ошеломить читателей, но не говорить о них нельзя — только тогда мы сможем понять, что значило оставаться человеком, оказывать помощь другим и делиться куском хлеба в «смертное время».
Порядок выдачи новых карточек многие блокадники считали чрезмерно бюрократическим. Инспекторы из учетного бюро должны были посещать квартиры заявителей и опрашивать их соседей, чтобы выяснить, в каких условиях они живут. По результатам обследования составлялся акт, который служил основанием при решении вопроса об обмене. Как правило, равноценным он не был: категория карточек на месяц или на декаду обычно понижалась. Вся эта процедура могла занимать несколько дней, что для истощенных людей было слишком долго, и являлась, откровенно говоря, бесцельной. В докладной записке военного прокурора города П. Панфиленко отмечалось, что в Петроградском районе к 22 января 1942 года не было рассмотрено 110 заявлений, поступивших 5—10 января, а в Куйбышевском районе из принятых до 10 января 1006 заявлений рассмотрено только 590.{526}
Едва ли, однако, могли послать инспекторов по всем адресам заявителей — для этого не имелось ни сил, ни средств, ни сотрудников. Тем, кто потерял карточки, приходилось самим собирать ворох официальных бумаг, справок и объяснительных записок, неоднократно ходить из одного кабинета в другой и стоять в длинных очередях в помещениях учетных бюро, и, о чем не сказать нельзя, выслушивать оскорбления от служащих. Грубость их отмечалась неоднократно. Издерганные нескончаемым потоком людей, охрипшие от споров с ними, видевшие в посетителях часто мошенников, желавших обмануть других, они чувствовали свою безнаказанность и не стеснялись выказывать неприязнь к людям, которые зависели от них и потому опасались им перечить. «Обе полуинтеллигентные, грубые, — писала о сотруднике учетного бюро 18 января 1942 года Л.В. Шапорина. — С 9-го числа хожу через день, вместо карточки второй категории… мне подсунули третью категорию, иждивенческую. Напутали и теперь глумятся надо мной. “Убирайтесь”, — кричит». Она стала свидетелем и другой сцены: «Пожилая, очень милая “дама” просила их перерегистрировать карточки своего зятя не по месту работы, а по месту жительства: “Да идти некому, зять болен, при смерти, внук тоже болен, я не могу так далеко”. Все было тщетно. “Везите в гробу”, — ответили ей»{527}. Среди работавших в учетных бюро нередко встречались люди милосердные, честные, порядочные, готовые быстро помочь — тем прискорбнее, что находились и те, для кого жизнь чужого человека стоила дешево.
Глава четвертая.
Еда
«…Я услышал обрывок разговора между женщиной и мужчиной, догонявшими меня, — …и это мы пробовали в смертное время», — вспоминал В.В. Бианки, приехавший в Ленинград весной 1942 года{528}. «Пробовать» приходилось почти всем — хотя самая омерзительная «гадость» из пищевых суррогатов доставалась людям, оказавшимся на дне блокады, не имевшим «связей» и знакомств, не желавшим, да и не способным безжалостно отодвигать локтями других.
Быстрое исчезновение «цивилизованных» продуктов из магазинов и столовых началось в сентябре 1941 года, после первых бомбардировок и резкого сокращения подвоза продовольствия в город, с 8 сентября блокированный немецкими войсками. Норма выдачи хлеба в первой половине сентября была понижена дважды — 2 сентября (до 600 граммов рабочим и ИТР, 400 граммов служащим, 300 граммов иждивенцам и детям) и 8 сентября (соответственно 500 и 300 граммов). С 6 сентября увеличились примеси в хлебе (ячмень, овес, солод), а 24 сентября их уровень повысился до 40 процентов{529}. «Молока теперь достать негде, масла нет или, вернее, почти нет», — записывала в дневнике 18 сентября 1941 года Л.В. Шапорина{530}. В ноябре было продано 5 5,6 тонны натурального молока и 569,71 тонны соевого молока{531}.
Все менялось стремительно и неостановимо. Как обычно бывает в таких случаях, началась паника. В магазинах и аптеках стали скупать все продукты и лекарства, причем нередко залежалые, не пользовавшиеся ранее спросом. Мясо перестали продавать в октябре 1941 года. Сокращение привычных норм выдачи сахара и крупы заставило многих ощутить голод еще в начале октября{532}. «Ожидаю того момента, когда можно будет купить рыбки и колбаски (100 и 150 г)», — сообщал в письме матери 5 октября 1941 года подросток В. Мальцев{533}. И в дневнике Ф.А. Грязнова рассказано, как 27 октября он решил употребить клейстер из картофельной муки{534}. «Есть клей! До чего же мы еще доживем», — восклицал он, но то, что случилось позднее, превзошло его худшие опасения. В конце октября стали собирать и покупать пропитанную сахаром и перемешанную с пеплом землю Бадаевских складов — это были, как отмечали блокадники, «обуглившиеся комки» и «шлак». Тщательно заполняли ею ведро, размачивали водой, ждали, когда осядут на дно камешки и грязь, сливали с него воду, несколько раз ее процеживали и кипятили. В сентябре—октябре ездили копать картошку в прифронтовую зону на Ржевке, на полях в Старой Деревне собирали кочерыжки и хряпу — гнилые, почерневшие листья капусты.
«Сейчас все заняты мыслями о пропитании, ищут дуранду, отруби» — эта запись в дневнике сделана Л.В. Шапориной 30 октября{535}. В октябре начали класть хлеб в суп — хотелось сделать его сытнее. Через месяц, как отмечал Ф. Никитин, обычной стала «жирная водичка и на завтрак, и на обед, и на ужин»; тогда же перестали выбрасывать и картофельную шелуху{536}. Чтобы «подкормиться», не брезговали никакой работой и соглашались ее делать за самое мизерное вознаграждение. В.Ф. Чекризов рассказывал, что 12 ноября он согласился дежурить на заводе за 125 граммов каши{537}. В ноябре голод почувствовали все — мало кто успел сделать запасы, жили одним днем. И каждый прожитый день был тяжелее предыдущего.
Собственно «цивилизованных» продуктов было мало, и продавались они по государственным ценам только по «карточным» нормам. Главным продуктом являлся хлеб. Белый хлеб прекратили давать по карточкам в сентябре 1941 года. Некоторое время он еще оставался на прилавках коммерческих магазинов (вызывая раздражение у горожан), но потом и они закрылись. Нехватка хлеба заставила с ноября 1941 года добавлять в хлеб примеси. Сначала это была овсяная, ячменная и соевая мука. Затем чаще стали использовать гидроцеллюлозу, которая составляла порой около четверти «хлебной» массы. Хлеб был тяжелым и сырым, с опилками, при его изготовлении использовали и мясокостную муку. Улучшение качества хлеба стали замечать с конца января 1942 года, когда в город завезли американскую муку. «Хлеб настолько дивный, вкусный, прекрасно выпеченный, с отменными корочками, что плакать хочется, почему так мало имеешь права его съесть», — записывал в дневнике И.И. Жилинский 30 января 1942 года{538}. В феврале 1942 года хлеб стал более сухим, а в октябре в ряде булочных продавали даже батоны из пшеничной муки.
Мясо обычно выдавалось мизерными порциями по 100—200 граммов в месяц по карточкам, что никак не могло удовлетворить даже минимальные потребности в белках. Да и отпускали его не всегда, а иногда заменяли другими продуктами. Отдавали в столовых «мясные» талоны для того, чтобы получить тарелку супа, очень неохотно, намного легче было расстаться с «крупяными» талонами. Мясом дорожили и использовали его особенно экономно. Некоторые предпочитали даже есть его сырым: считалось, что при варке и жарке оно утрачивало ценные пищевые компоненты. Колбасой мясо заменяли редко. Высокой похвалы удостаивалось у блокадников «дивное» американское мясо — «мы такого и в мирное время у себя не ели»{539}; выдачи его, правда, были редкими, но обязательно отмечались в дневниках.
Очень трудно было получить по карточкам и масло. Л.Я. Гинзбург вспоминала о том, что масло, если оно выдавалось по полной норме, оказывалось прогорклым, а если в меньшей — то качественным. Вместо масла иногда выдавался гусалин — кулинарный жир с мукой, обычно предназначавшийся для жарки продуктов, отвратительный на вкус, но сытный. Большой редкостью являлась и рыба. Свежей рыбы не было, небольшой улов, добывавшийся в порту, использовался для нужд портовых рабочих, а некоторая его часть оказывалась на столе у «ответственных работников». Населению выдавалась, как правило, селедка, причем тоже редко. Большим лакомством считался рыбий жир. Припасали его обычно для детей, причем обнаруживали в нем не только калорийность, но и отменные вкусовые качества. «Несколько раз мы позволили себе роскошь — поджарили на рыбьем жире свой хлеб», — читаем в воспоминаниях А.И. Воеводской{540}.
С начала января 1942 года почти прекратились выдачи натурального молока. Небольшие порции сгущенного молока можно было еще получить по карточкам и в женских консультациях, а также в детских учреждениях в виде «сухого пайка». Употребляли обычно соевое молоко. В 1942 году его нередко можно было получить на предприятиях и в учреждениях как дополнительное питание, «бесталонное» и бесплатное. Пили его не очень охотно. Оно имело, как деликатно выразился один из блокадников, «специфический запах», к которому он, впрочем, притерпелся: «Хорошо оно, когда прокиснет. Очень вкусное»{541}. В декабре 1942 года для детей отпускали молоко улучшенного качества, как правило, от пол-литра в день — «не соевого, а овсяно-солодового. Оно совсем коричневое и гораздо вкуснее, сладкое»{542}.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Повседневная жизнь блокадного Ленинграда"
Книги похожие на "Повседневная жизнь блокадного Ленинграда" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Яров - Повседневная жизнь блокадного Ленинграда"
Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь блокадного Ленинграда", комментарии и мнения людей о произведении.