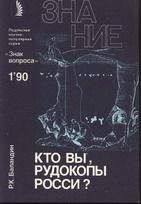Всеволод Багно - На рубеже двух столетий

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "На рубеже двух столетий"
Описание и краткое содержание "На рубеже двух столетий" читать бесплатно онлайн.
Сборник статей посвящен 60-летию Александра Васильевича Лаврова, ведущего отечественного специалиста по русской литературе рубежа XIX–XX веков, публикатора, комментатора и исследователя произведений Андрея Белого, В. Я. Брюсова, М. А. Волошина, Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, М. А. Кузмина, Иванова-Разумника, а также многих других писателей, поэтов и литераторов Серебряного века. В юбилейном приношении участвуют виднейшие отечественные и зарубежные филологи — друзья и коллеги А. В. Лаврова по интересу к эпохе рубежа столетий и к архивным разысканиям, сотрудники Пушкинского дома, где А. В. Лавров работает более 35 лет. Завершает книгу библиография работ юбиляра, насчитывающая более 400 единиц.
Аполлон Аполлонович не любил своей просторной квартиры <…> мебель в белых чехлах предстояла взорам снежными холмами <…>. Стены — снег, а не стены <…>. Аполлон Аполлонович с большей охотой перебрался бы из своего огромного помещения в помещение более скромное; <…> а он, Аполлон Аполлонович Аблеухов, должен был отказаться навек от пленительной тесноты: высота поста его к тому вынуждала; так был вынужден Аполлон Аполлонович праздно томиться в холодной квартире на набережной (с. 87–88).[191]
Относительная смысловая ясность пары «лягушка — Аполлон» тем не менее не снимает вопроса об истоках беловской образности, уже становившихся предметом отдельных наблюдений (см., например, комментарии к «Петербургу» С. С. Гречишкина, Л. К. Долгополова и А. В. Лаврова, в которых мотив «лягушки» возводится к прозе Эдгара По, — с. 655). В своей диссертации, посвященной египетским мотивам в творчестве Андрея Белого, Эвелис Шмидт, отметив двойственность Аблеухова-младшего как «Bruch zwischen Wissenschaft und Leben, Geist und Natur»[192], вполне обоснованно связала мотивы, через которые подан персонаж «Петербурга», «смешение» (Mischung), организующее образ героя, с целым рядом небеллетристических текстов писателя — в частности, со статьями «Химеры» и «Сфинкс», опубликованными в «Весах» в 1905 году, а также с путевым очерком «Египет», напечатанным во время работы Белого над романом[193]. Так, в «Химерах» Белый вводит полюса «звериного» и «божественного» как начала «природной необходимости» и «свободы»[194], а в эссе «Сфинкс», посвященном антиномии «бытия» и «долженствования», изображает жутковатый исток человечества — доисторических рептилий[195], вылезающих из воды на сушу земноводных «гадин». Рептильная образность «гадин» наделяется автором семантикой «гаденького наследства прошлого», постыдной «фамильной» тайны, страшной и одновременно комически-отвратительной животной наследственности, преследующей человека. В ряд «гадин» Белый включает и апокалиптического «зверя из бездны», легко переводя зоологическую, эволюционную образность в религиозно-философский, а также, дополняя образ «больших гадин» «малыми», «маленькими гадостями, затаенными в глубинах сознанья»[196], — в психологический план. Эвелис Шмидт выделила лейтмотивный ряд, связывающий «Сфинкс» и «Петербург», отметив игру с корнем «гад» и соотнеся «гадин» статьи с целой россыпью «гадин», «гаденького» и «гадостей», которыми награждаются в романе облик и поведение Аблеухова-младшего[197], «гадкого лягушонка»[198], чье сознание переполнено «чудовищами» и «гадостями» по отношению к отцу и Софье Петровне[199]. Тематика эволюции/инволюции, регресса к «зверю со всем его гаденьким скарбом», столь отчетливо проартикулированная в статье «Сфинкс» — представленная в «Петербурге» целым веером взаимосвязанных друг с другом и исключительно важных мотивов ненависти к семье и «роду»[200], роковой «наследственности», «предков», «вырождения» («выродка», «отродья», «разложения крови») и т. п. и отнюдь не случайно разворачивающаяся на фоне сюжета об аристократическом семействе[201], традиционном для повествования о вырождении, — как кажется, позволяет ответить на вопрос о культурных истоках той образности, той полярности, которой характеризуется главный персонаж беловского романа, а также уточнить семантику пары «лягушка — Аполлон».
Характеризуя своего персонажа через смешение «божественного» и «звериного», Белый подчеркивает статичность, «профильность» Аполлоновой маски и избыточную подвижность, мимичность «лягушонка» («ужимочки, бесцельные потирания иногда потных рук, наконец, неприятное лягушачье выражение улыбки, проистекавшее от несходившей с лица игры всевозможнейших типов»). Изучавший историю культурного освоения природных феноменов М. Б. Ямпольский убедительно показал, что в XVIII веке происходит процесс кристаллизации исключительно важного для европейской культуры противопоставления идеальной, неподвижной, бесстрастной, статуарной красоты и «низкой» бестиальности, наделенной страстями и чрезмерной мимикой[202]. Причем кодифицируется данная конструкция (безусловно актуальная, как отмечает исследователь, и для культуры XX века[203]) в физиогномической традиции[204], точнее, в зоофизиогномике.
Как известно, одним из ключевых эпизодов в длительной истории зоофизиогномики стала работа голландского врача П. Кампера, построившего своеобразную эволюционную модель и опиравшегося на идею так называемого «лицевого угла», то есть угла между «горизонталью и линией, проведенной ото лба к верхней губе»[205]. В качестве двух крайних полюсов эволюционной шкалы Кампера выступали предельная бестиальность обезьяны с ее лицевым углом в 42 градуса и воплощавший идеал классического, винкельмановского совершенства профиль Аполлона — со 100 градусами. Соответственно увеличение лицевого угла означало движение по эволюционной шкале вверх — к совершенству, разуму и отсутствию низких страстей. Как отмечает известный французский искусствовед Юргис Балтрушайтис в своем очерке истории зоофизиогномики[206], схема и метод Кампера были подхвачены швейцарским физиогномистом И. К. Лафатером, настаивавшим, впрочем, на своей интеллектуальной независимости, а кроме того, полагавшим, что его эволюционная шкала — по сравнению с камперовской — выигрывает в точности. Среди прочих новшеств Лафатер «предложил свою собственную шкалу лицевого угла, которую он назвал „линией анимальности“ (la ligne d’animalité)»[207], пойдя при этом в сторону заострения лицевого угла на низшей ступени эволюции. Двадцать четыре эволюционные стадии, выделенные Лафатером благодаря линии анимальности, приводили в качестве высшей точки эволюционной шкалы к идеальному профилю Аполлона, а в качестве низшего, исходного момента лафатеровской шкалы «постепенного очеловечивания» выступала лягушка (ил. 1–2), являвшаяся в системе швейцарского физиогномиста воплощением природы «наиболее низкой и животной» («la plus ignoble et la plus bestiale»)[208]. Причем, описывая стадии перехода от лягушки к Аполлону, от чистой бестиальности к антропологическому совершенству, Лафатер дополняет характеристики полюсов своей эволюционной шкалы, соотнося высшую точку с гением, подобным кантовскому[209].
Как пишет Балтрушайтис, схемы, выстроенные Кампером и Лафатером, были подхвачены культурой XIX столетия, при этом весьма восприимчивыми к этим системам оказались художники-карикатуристы, активно перерабатывавшие конструкции, предложенные зоофизиогномикой. Именно в сфере карикатуры эволюционная модель Лафатера была подвергнута реверсированию, словно предвосхищавшему трактат Мореля о дегенерации (1857). Так, в частности, Балтрушайтис отметил гравюру прославленного французского карикатуриста Ж.-Ж. Гранвиля «Apollon descend vers la grenouille» (1844)[210], в которой эволюционная шкала Лафатера обращена вспять, эволюция трансформирована в инволюцию, в своего рода движение в сторону вырождения и регресса[211] (ил. 3).
Данный контекст, как кажется, указывает на то, что использование Белым лафатеровской пары[212] следует связывать не только с желанием автора подчеркнуть «разорванность», антитетичность характера Аблеухова-младшего через традиционные репрезентанты крайностей, но и с эволюционным характером данной конструкции, легко вписавшейся в линию героя-«выродка», который одержим, терзаем «страхами и ужасами» родового «наследства»[213] и которому в процессе разворачивания романного сюжета предстоит пройти через радикальное «перерождение» «органов чувств», через своего рода «вочеловечение»[214].
Аркадий Блюмбаум (Санкт-Петербург)Из заметок о русском модернизме
Георгий Адамович был человеком весьма много пишущим, и далеко не все его публикации, особенно газетные, попадают в поле зрения историков литературы, хотя среди них есть весьма любопытные.
Одна из таких публикаций вошла в цикл его небольших заметок «Отклики», которые он под общеизвестным псевдонимом «Сизиф» печатал в «Последних новостях» (1927, № 2444, 1 декабря)[215]:
Смерть Пшибышевского мало кого взволновала. Едва ли найдется другой писатель, который бы так явно и несомненно «пережил свою славу». А слава была громкая, хоть и не во все страны проникшая. У нас лет двадцать тому назад без улыбки говорили: «Ницше, Ибсен, Пшибышевский»… И это казалось вполне законным. Но, например, во Франции Пшибышевского никто не знал и не знает. Переводов его не существует.
На днях в одной из вечерних парижских газет появилось письмо, автор которого рассказывает, что он в 1908 году перевел на французский язык «Снег» и «Homo Sapiens» и что с тех пор он тщетно ищет издателя. Найдет ли теперь? Сомневаюсь. И, право, бывают случаи, когда хочется сказать: «Лучше никогда, чем поздно». Слишком поздно.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "На рубеже двух столетий"
Книги похожие на "На рубеже двух столетий" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Всеволод Багно - На рубеже двух столетий"
Отзывы читателей о книге "На рубеже двух столетий", комментарии и мнения людей о произведении.