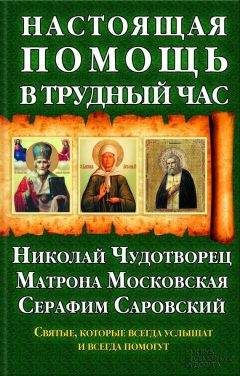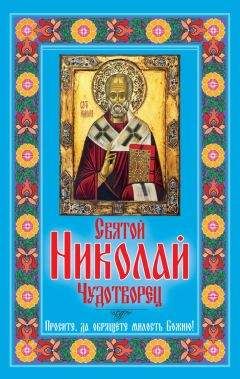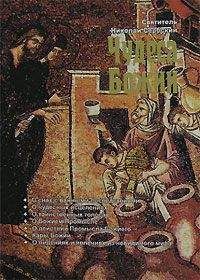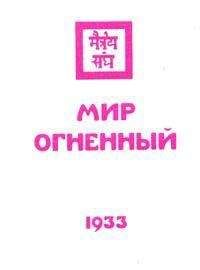Николай Арсеньев - О Жизни Преизбыточествующей
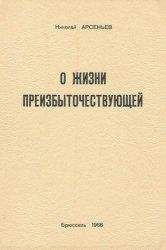
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "О Жизни Преизбыточествующей"
Описание и краткое содержание "О Жизни Преизбыточествующей" читать бесплатно онлайн.
Ибо христианство, как мы знаем, влияло не только на эстетическую культуру, на литературу, на религиозную философию русского народа, не только на патриархальный быт благочестивых семей — оно оказывало воздействие на весь поток исторической жизни русского народа среди всех его падений и недочетов, оно часто было ему маяком среди мрака его страдания и собственного греха. То, что мы говорили о покаянной стихии, захватывающей руского человека, напр., в богослужениях Великого Поста и особенно ярко проявляющейся в отдельных случаях обращения тяжкого грешника к Богу, — это относится в значительной степени и к жизни и к судьбам русского народа в его совокупности.
Уже в летописи Нестора под 1093 годом, при описании страшного набега половцев и мук русских людей, особенно же отведенных в плен, усиленно проводится мысль, что это есть попущение Божие в наказание за грехи народа. Это чувство вины своей перед Богом и что Бог карает нас за грехи наши, часто пробуждалось в самых широких кругах народа в моменты кризисов или горя народного. Об этом свидетельствует, напр., то широко распространенное в Смутное Время сказание о неком благочестивом человеке, который в видении был перенесен в какую–то большую церковь и видел, как Матерь Божия слезно молила Сына Своего простить грех заблудших и впавших в глубину греха русских людей [409].
То же сознание всенародного беззакония и необходимости покаяния проступает в известном видении 1521 года, которое имела (по свидетельству стольника Лызлова) некая слепая монахиня Вознесенского Монастыря в Кремле. Она видела, как через Спасские ворота выходили из Кремля все святые, почивающие в кремлевских соборах, унося с собой Владимирскую икону Божией Матери, чтобы предоставить Русь и Москву насылаемой на них каре Божией. Но навстречу им вышли Сергий Радонежский и Варлаамий Хутынский и умоляли святых вернуться и не отказываться от своего предстательства перед Богом за русский народ. Та же идея необходимости покаяния пророчески звучит в конце «Бесов» Достоевского. Под знаменем этого покаяния в своих грехах перед Богом только и мыслимо и в наши дни действительное возрождение России и избавление ее от темных сил, действующих в большевизме.
И активному служению ближним учила Церковь русских людей. Живым призером такого любвеобильного служения ближнему были, напр., Оптинские старцы 19–го века. И был ряд предстоятелей Церкви, которые бестрепетно выступали за правду перед сильными мира сего и обличали их не боясь смерти. Так Феодосий Печерский обличал великого князя Святослава за незаконный захват им киевского престола. Так же мужественно обличали князей за неправду и другие печерские подвижники — Григорий Чудотворец (князя Ростислава) и игумен Иоанн (великого князя Святополка II). Св. Григорий Вологодский в 1430 году мужественно выступает с обличением против Димитрия Шемяки за беззаконно начатую междуусобную войну. «Князь Димитрий», говорит он ему, «разве ты не читал в Писании: Суд без милости не оказавшему милости?» Вспомним мужественный подвиг свидетельства о правде митрополита Филиппа Московского, запечатленный его мученической смертью, и особенно близко нас касающийся и близко нас захватывающий подвиг бесчисленных мучеников и исповедников последних лет в Советской России.
Высший цвет человечества имеем в лице святых его. Они как бы теперь уже являются переходом, тут, среди нас, к высшей степени бытия и тем самым служат живыми свидетелями этой божественной действительности. Они вместе с тем и высший цвет нации, произведший их, но они не укладываются в рамки только национальные, как вообще все лучшие духовные и культурные ценности человечества. Истинные светильники подлинной христианской жизни — не словом, а делом и всем бытием своим — русские святые поэтому одновременно сверхнациональны, ибо из сверхнационального и Вечного черпают они силу свою, и вместе с тем они — высшее достижение русского народа. В них русский народ ощущал близость Божию. Они уходили в леса и пустыни и болота, на берега пустынных озер и рек, на далекие дикие острова, и народ шел к ним, ибо знал, что великие силы, великие возможности любви и горения духовного и помощи ближнему выработаны ими в этом их молитвенном уединении, и получал помощь от них. Имена их бесчисленны. А другие оставались в мирской обстановке и светили в ней. Вспомним, напр., уже Завещание Владимира Мономаха детям своим и характеристики его и других благочестивых и праведных князей в Древней Летописи.
Суровый подвиг личный, соединенный с любвеобильным служением ближнему, смирение и трезвенность и простота, детская простота сердца, сочетающаяся с великой мудростью духовной, с даром «различения», духовный такт и горение духа, просветляющее всю окружающую духовную атмосферу (как мы имеем, напр., в лице Серафима Саровского) — вот характерные черты высшего проявления в жизни русского народа этих творческих и при том свыше, из другой, сверх–субъективной области приходящих сил, свидетельствующих о другой, высшей действительности. Особенно же ярко и наглядно проявилось это свидетельство, как мы указывали, в подвиге мучеников и исповедников, бесчисленных, — причем имена только некоторых нам известны — пострадавших при большевиках за веру Христову. Вспомним, например, имена митрополита Вениамина Петроградского, митрополита Арсения Новгородского, Митрополита Петра Крутицкого, епископа Дамаскина Глуховского, архиепископа Иллариона, многочисленных Соловецких мучеников и исповедников, и многих, многих других …
Одной чертой русской религиозности хочу я закончить. В центре ее — как мы уже говорили — стоит радость о Воскресении Христовом, радость о победе Сына Божия — через распятие и воскресение Свое — над силами ада и тьмы и смерти. Вот эта вера в победу Божию, эта радость воскресения, этот дух первохристианской проповеди, живущий в ней («Сия есть победа, победившая мир — вера наша» — 1 Иоан. 5, 4), и есть тот стержень духовный, то знамя духовное, которое поможет русскому народу в его борьбе против темных сил Зла и Лжи за Правду Божию.
О смысле культуры
Проходит, уничтожается, следа не остается. На месте великолепных зданий — груды мусора или, в лучшем случае, несколько каменных обломков. И чувства проходят, которые переживались людьми, вместе с этими людьми. И заветы, и думы, и традиции их проходят. Случайно что–нибудь уцелеет. Полный текст платоновских диалогов дошел до нас в одной только рукописи, принадлежащей уже к средневековью (списанный с предшествовавших ей рукописей через 16 веков после сочинения этих диалогов Платоном).
Что останется после нашей культуры, если она подвергнется таким же разгромам, которым подверглись Рим и Италия в 5–ом и 6–ом веках по P. X., Константинополь в начале 13–го века при взятии и разграблении его крестоносцами и в 1453 г. при взятии его турками?
Впрочем, судьба Нюрнберга, Монте–Кассино, Киева и его святынь, и вообще ряда зап. — европейских и русских городов и памятников древности и великих святынь, уничтоженных большевиками, немцами и англоамериканской авиацией, пожалуй, еще плачевнее, чем судьба древнего Рима и Византии. А судьба Ниневии, Вавилона, Персеполиса и Иерусалима и других мощных центров культуры и государственности древнего мира?
И как изменяются, стареют, ветшают многие культурные ценности, даже в процессе не катастрофических потрясений и гибели целых культур и целых народов, а просто естественной смены и мирной, постепенной замены старого новым. Кое–что сохраняется, остается. Этот процесс передачи унаследованного и развития великих ценностей духовных и духовноматериальных, создание и творение новых ценностей из старого корня или вдохновение и озарение непрерывного потока жизни новым содержанием (но как–то все же связанного, хотя бы полемически, критически или реформационно с духовным содержанием предыдущего) — вот этот мощный процесс динамически–наступательный, творческий, и вместе с тем связанный с предшествующими борениями и достижениями, с корнями исторической жизни и с основами жизни духовной — мы и называем культурой.
Но ведь не только здания разрушаются, рукописи уничтожаются, великие произведения искусства и мысли теряются и забываются, но и целые культуры — эта совокупность традиций и творческого устремления вперед — гибнут, ветшают, умирают, забываются. Какой же смысл в этом потоке, пускай и творческом, и живом, и жизненно–прекрасном, если он вливается в великое море постепенного забвения и уничтожения, частичного во всяком случае, а потом, повидимому, и полного забвения и уничтожения?
Лишь горсточка пепла, лишь несколько кирпичей, лишь несколько металлических украшений или обломок жертвенника с выгравированной на нем непонятной надписью (или пускай даже расшифрованной надписью) остается от ряда прежних гордых культур, например, от культурных древних Майя. Или — еще грознее и страшнее и неизбежнее — становится вопрос о грядущей гибели самого земного шара и всякой обитающей на нем жизни и культуры.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "О Жизни Преизбыточествующей"
Книги похожие на "О Жизни Преизбыточествующей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Арсеньев - О Жизни Преизбыточествующей"
Отзывы читателей о книге "О Жизни Преизбыточествующей", комментарии и мнения людей о произведении.