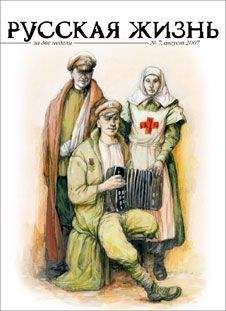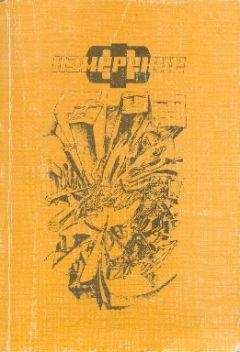Борис Парамонов - След: Философия. История. Современность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "След: Философия. История. Современность"
Описание и краткое содержание "След: Философия. История. Современность" читать бесплатно онлайн.
Борис Парамонов — философ, блестящий стилист, один из самых оригинальных и острых современных авторов, заслуживший репутацию мастера интеллектуальных парадоксов. С 1980 года живет в Нью-Йорке.
В настоящем сборнике Борис Парамонов предстает как исследователь и комментатор академического склада.
Очень много интересного о «Горе от ума» и Грибоедове наговорил Розанов. Как всегда у него, чудовищные ошибки понимания соседствуют с блестящими прозрениями. Хочется, однако, привести чародейные розановские словеса в возможной полноте. Розанов пишет, что комедию пронизывает «чувство счастья», отсюда ее «победный, побеждающий тон», это «критика счастливого, радующегося человека»:
Грибоедов не пережил ни одной из тех глубоких трагических коллизий, которые пришлось пережить Пушкину, Лермонтову, Толстому, Достоевскому, Гоголю… Дальше «фасона» критика не простирается; дальше требования — сменить один вид «стиля» другим, новейшим, автор не задается. От него нельзя провести соединительной линии к Лаврецкому, но очень можно к Паншину… Комедия движется на паркете, и ее беспримерно изящный словесный сгиб есть именно словесная кадриль, с чудным волшебством проходимая по навощенному полу, и которая оборвется, не нужна, не возможна, как только вы уберете это условие паркета под нею10.
Поэтому «Горе» — «не поэтично», «самое не поэтическое произведение в нашей литературе», в нем нет (любимой розановской) «физиологии», «некоторая глухота… к сути бытия и жизни», «Горе от ума» — «бедно вниманием». Розанов противопоставляет Грибоедову Толстого, «Войну и мир»: там, где Грибоедов сатиричен, там Толстой видит красоту и величие. Скалозуб делается у него Николаем Ростовым, а старуха Хлестова, вместе с моськами и арапками, уезжает из Москвы, чтобы не подчиняться Наполеону. Грибоедов ошибся и в других своих персонажах: Софья может вылиться в Лизу Калитину, она «выбирает, а не повинуется», а Молчалин — это Сперанский11.
Вот эти последние слова у Розанова — верные. Но Грибоедов не то чтобы «беден вниманием», — он намеренно снижает некоторые сюжеты и типы русской жизни, он «партиен». Сатира на Молчалина свидетельствует как раз о внимании — но недоброжелательном, злом. Грибоедов видит в нем врага: это опасный для автора «Горе от ума» жизненный, социальный тип. А ведь Молчалин — Сперанский (конечно, Сперанский как развитие и повышение типа Молчалина) — это будущий деятель крестьянской реформы, осуществленной людьми, выросшими в бюрократических канцеляриях Николая I.
Так, чуть-чуть внимательней приглядевшись к знакомым с детства картинам, мы начинаем видеть их уже по-другому: в сатире на Молчалина не моральное обличение выступает на первый план, а социальный конфликт русской жизни начала XIX века — конфликт родовитого барства и бюрократии из разночинцев. Некоторая социологизация так называемых «вечных типов» русской литературы совершенно необходима, социологический подход к литературе не должен как таковой априорно дискредитироваться в качестве «вульгарного».
О том, что социологическим методом можно обнаружить в литературе много интересного и не замеченного ранее, свидетельствуют работы знатока Грибоедова — Н. К. Пиксанова. Он начал работать еще до революции, — но сравните его тексты хотя бы в академическом издании Грибоедова 1911–1917 годов с тем, что собрано им в книге 34 года, и вы увидите, что ославленный социологический метод в умелых руках много интереснее, острее и питательнее той либеральной жвачки, которой было отечественное литературоведение до известного времени.
Пиксанов известен как наиболее резкий противник мнения о Грибоедове-декабристе. Он исходит из представления о декабристах как о радикалах и революционерах, и на этом фоне Грибоедов, нарисованный Пиксановым, действительно бледнеет. На следствии по делу декабристов Грибоедов говорил о себе только как о стороннике свободы книгопечатания и гласного суда (да еще разве что «русского платья»); допустим, что это естественная самозащита человека, не желающего идти на галеры. Но ведь все, что нам известно о Грибоедове, свидетельствует чуждость его расхожему типу декабриста, ни творчество его, ни жизнь не дают оснований для причисления его к декабристам, считает Пиксанов.
Он разыскал интереснейшее архивное дело о бунте крестьян в костромской вотчине матери Грибоедова — и показал, какова была реакция на это событие будущего автора «Горя от ума»: эта реакция интересна тем, что ее вообще не было, происшествие никак не отразилось на Грибоедове. Отсюда Пиксанов заключает, что Грибоедов вообще не был противником крепостного права, в «Горе» он выступил только против злоупотребления им; позиция, по Пиксанову, весьма характерная как раз для представителя старинного родового барства. Злоупотребляли крепостными порядками не потомки старинных барских родов, а нувориши, «люди в случае»[43].
Социологизируя скорее на переверзианский лад — проблематику Грибоедова, Пиксанов приходит к заключению, что в его комедии нашел выражение конфликт «среднего дворянства» с «вельможами». При этом необходимо указать (и Пиксанов делает это), что «вельможество» и древность рода, аристократизм — совсем не одно и то же: во времена Грибоедова вельможами называли скорее царедворцев, людей, приближенных к высшей власти; равным образом «среднее дворянство» отнюдь не значит «худородное»: это скорее просто неслужилое дворянство, не связанное с центрами политического влияния. Фамусов у Грибоедова как раз служилый вельможа, царский бюрократ. Преимущество родовитости, аристократической независимости, барственности — на стороне Чацкого. В статье «Писательская драма Грибоедова», вошедшей в упомянутый сборник 34 года, Пиксанов показал, в чем заключался основной конфликт жизни Грибоедова: ненавидя бюрократию и службу, он вынужден был служить, него не было денег и он не мог их заработать литературным трудом, как, допустим, Пушкин, ибо он был, в отличие от Пушкина, человеком одной книги, творчество его после «Горя» иссякло. Резюме Пиксанова:
Все это приводит к тому заключению, что «Горе от ума» — барская пьеса. Это самая барственная из пьес русского репертуара… Лирика «Горя от ума» — лирика чести и личного достоинства12.
Интересно, что уже много позднее, в большой статье о Грибоедове, помещенной в новом академическом издании «Горя от ума» (М., «Наука», 1969, серия «Литературные памятники»), Пиксанов по существу повторил то, что писал в 20-е годы и в начале 30-х, в частности продолжал отрицать декабризм Грибоедова. То есть тут мы имеем дело с установившейся интерпретацией серьезного ученого, а никак не с насильственным подчинением навязанному извне методу, каковым, казалось бы, в свое время был социологический метод. Повторяем, при адекватном применении метод был весьма невреден: он помог избавиться от многих либеральных мифов, сложившихся вокруг Грибоедова и «Горя от ума», избежать «расплывчатой номенклатуры интеллигентски-идеалистической критики», как говорил Пиксанов13.
Нельзя не заметить, что автор, придерживавшийся прямо противоположной точки зрения о Грибоедове-декабристе, находился, в отличие от Пиксанова, не в ладу со своим прошлым. Мы имеем в виду академика М. В. Нечкину. Две ее работы — «Грибоедов и декабристы» и двухтомная «Движение декабристов» — написаны в порядке расчета с «грехами молодости» и должны свидетельствовать покаяние. Нечкиной необходимо было отмежеваться от школы Покровского, едва ли не активнейшим адептом которой она была. Ее книга о декабристах 1933 года совершенно покровскианская. Так что последующие ее сочинения на интересующую нас тему цель имели вненаучную. Конечно, это не значит, что отстаиваемый Нечкиной тезис о декабризме Грибоедова тем самым автоматически доказывает свою ложность. Мы просто хотим сказать, что указанные работы Нечкиной 40–50-х годов для доказательства этого тезиса дают очень мало, если вообще что-либо дают. В эти годы в советской научной литературе доказательства и аргументация заменялись системой вербальных обозначений, то или иное положение не доказывалось, а провозглашалось. Приведу соответствующие примеры из Нечкиной. Ей надо было убедить читателей, что фигура Репетилова не исчерпывает отношения Грибоедова к декабристам, и доказывала она это так: декабристы меняли свою тактику, от широкой агитации переходили к конспиративной работе, и Репетилов появился, так сказать, в порядке декабристской самокритики, в процессе смены одной тактики другой. Проследив по рукописям «Горя от ума», когда в них появляется Репетилов, Нечкина сочла свою задачу выполненной, выяснив, что его появление хронологически совпадает с моментом изменения декабристской тактики. Художественное произведение она пыталась представить какой-то партийной газетой, вроде ленинской «Искры» «коллективного организатора», или ленинского же рецепта: сегодня рано, а послезавтра поздно14.
Другой пример аргументации Нечкиной. Близость Грибоедова к декабристам устанавливается арифметическим способом. Нечкина подсчитала, что Грибоедов мог быть знаком с 45 декабристами и близкими к ним лицами, из них 29 человек были несомненными его знакомыми, семеро учились вместе с ним в Московском университете, а с девятью знакомство остается весьма вероятным15. Устанавливая все эти связи, Нечкина проделала громадную и кропотливейшую работу, имеющую все достоинства сизифова труда. Собственно, что доказывает этот перечень? Только факт знакомства, отнюдь не участия Грибоедова в декабристских организациях. Вообще же этот прием напоминает рассказ Зощенко, в котором управдом, выступая на пушкинском юбилее, подсчитывает, кто из русских классиков мог бы нянчить его бабушку.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "След: Философия. История. Современность"
Книги похожие на "След: Философия. История. Современность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Парамонов - След: Философия. История. Современность"
Отзывы читателей о книге "След: Философия. История. Современность", комментарии и мнения людей о произведении.