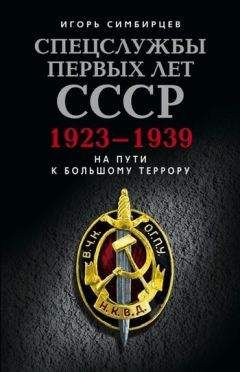Сюзанна Шаттенберг - Инженеры Сталина: Жизнь между техникой и террором в 1930-е годы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Инженеры Сталина: Жизнь между техникой и террором в 1930-е годы"
Описание и краткое содержание "Инженеры Сталина: Жизнь между техникой и террором в 1930-е годы" читать бесплатно онлайн.
Книга немецкого историка С. Шаттенберг посвящена первому поколению новой советской технической интеллигенции, которое в конце 1920-х гг. сменило «старых специалистов», в 1930-е гг. создавало советскую промышленность, поддерживало Сталина, страдало от террора и все-таки продолжало верить коммунистической партии. В основу книги легли опубликованные и хранящиеся в архивах воспоминания инженеров, которые получили образование и начали трудовую деятельность в СССР в годы первых пятилеток. Большое внимание уделяется образу инженера в советской печати, литературе и кинематографии 1930-х гг.
Книга предназначена для специалистов-историков и широкого круга читателей, интересующихся историей СССР.
Газеты постоянно писали об энтузиазме и героизме советских людей, совершавших чудеса и строивших «свои» домны голыми руками. Журнал «СССР на стройке» печатал фоторепортажи, демонстрировавшие гигантские котлованы Магнитогорска и Кузнецка, где сотни людей работали кирками и лопатами без единого экскаватора. В комментариях сообщалось, что строителям не хватало леса, арматуры, свай и бетона, зато инженер Дмитриев разработал замечательный проект, стоивший всего 50 000 руб. и реализованный за месяц. Французские инженеры хотели выписать материалы, технику и специалистов из Франции, что заняло бы пять месяцев и обошлось в полмиллиона золотых рублей: «Но мы хотели сэкономить советское золото и не могли ждать пять месяцев: это означало смерть начатых сооружений, голодную смерть для домен»{943}.
В романе-репортаже И.Г. Эренбурга о Кузнецкстрое «День второй» начальник строительства Шор объясняет немецкому инженеру, почему здесь все делают вручную, вместо того чтобы закупить машины: «В Германии мы должны расплачиваться валютой. У нас другая экономика. Да и нервы другие. А главное, помимо расчета, у нас имеется… Как бы вам это объяснить?.. Официально это называется "энтузиазмом" Одним словом, замечательная страна! Поживете еще год-другой, тогда и поймете!»{944}
Наличие подобного энтузиазма, горячего стремления сэкономить л доказать, что все можно сделать с помощью собственных рук и железной воли, подтверждают такие крупные инженеры, как В.А. Захарьевский и В.Д. Ястребова. И они, не желая полгода ждать, пока на Днепр прибудут из-за границы краны и экскаваторы, прибегли к «нашим старым русско-украинским методам», обходясь лошадью, киркой и лопатой. Когда понадобилось опускать в воду ряжи для фундаментов, Захарьевский за неимением кранов придумал собственный механический способ, успех которого поразил и его самого, и американцев{945}. Начальник Магнитостроя Гугель и инженер Джапаридзе также с гордостью рассказывают об исключительных достижениях строителей моста, у которых не было крана. Они без помощи механизмов устанавливали 260-тонные блоки. Гугель пишет: «Опыт "американской практики" бит опытом "большевистской воли"»{946}.
Воспевая ручной труд, пресса в то же время с началом второй пятилетки стала ругать заводы и фабрики, не желавшие механизировать производство: их руководство, дескать, думает и дальше эксплуатировать человеческие руки вместо машин. Заголовки в газете «За индустриализацию» в марте 1933 г. гласили: «Вот они, корни низкой производительности. Доменные цехи юга саботируют механизацию трудоемких работ. К ответу могильщиков ценных механизмов, героев ориентации "только на каталя"! Доменщики Дзержинки упорно не хотят механизировать погрузку и подачу сырья»{947}. «Инженерный труд» выявил «антимеханизационные настроения» на угольных шахтах под Баку. Там, писал он, есть коммунисты, которые упорно сопротивляются применению машин и пневматических отбойных молотков{948}. Печать искала виновных в дефиците материалов и техники и находила их в управленческом аппарате и на предприятиях: «Московские заводы — кандидаты в саботажники… Из 34 договоров на снабжение едва заключен один»{949}. «Раз и навсегда решить проблему лесоснабжения»{950}. «У семи главков комбинат без средств, без снабжения»{951}. Л.М. Каганович позже в своих воспоминаниях написал о тех, кого считал ответственными: «Эти люди хотели только брать и брать. Но я понимал, что дело в бесхозяйственной организации»{952}. В действительности просто не существовало организованной системы заказов и поставок, например запчастей. Отсутствовало центральное распределительное ведомство, которое устанавливало бы, какому предприятию на каком заводе заказывать запчасти, сами же предприятия были не в состоянии решить эту проблему. Кто-то получал один и тот же товар дважды или трижды, а кто-то оставался с пустыми руками. Заводы часто даже не вели документации по принятым заказам. В качестве типичного приводился пример администрации завода «Автозапчасти», которая уверяла, будто получила три заказа на 374 000 руб., в то время как заказчик настаивал, что ему должны поставить 21 наименование общей стоимостью свыше 1 млн. руб. Директоров четырех заводов запчастей для тракторов, обвинявшихся в том, что, не выполнив заказ, они срывают посевную, газеты обличали поименно, печатая их фотографии{953}.
Литература и кино показывали, что именно инженеры мешают производству и постоянно саботируют в целом функционирующую систему. В фильме «Три товарища» инженер Михаил Зайцев сбивается с праведного пути, крадет с другого завода несколько вагонов леса и вообще добывает себе сырье незаконно, у «шакалов» — воров и спекулянтов. Его за это увольняют и исключают из партии. В романе Патреева «Инженеры» суровый урок получает молодой инженер Дынников, который пытается незаконным путем достать остро необходимый на стройке мотор и нарывается на обманщика{954}.
Оба дискурса — прославление особого советского стиля работы и энтузиазма людей, с одной стороны, и обвинения в адрес инженеров, с другой стороны, — задают рамки опыта и восприятия инженеров. При этом наблюдается и третий элемент: инженеры рассказывают, что снабжение строек и заводов шло бесперебойно лишь в том случае, если им удавалось установить хорошие отношения с партийными и государственными руководителями или обзавестись иными полезными связями. У Федоровой советские методы строительства вызывают пылкий восторг. Когда она в 1932 г. пришла на Метрострой, там не было не только тяжелой техники, но даже простейших инструментов. Бригады дрались из-за «козы» — единственной тачки для перевозки бревен и досок. Голыми руками и самыми примитивными орудиями они расчищали строительную площадку: вскрывали мостовую, сносили старые домишки, перекладывали канализационные трубы и снимали трамвайные рельсы. Осенью 1933 г., когда кончились лесоматериалы, их недолго думая отправили на север, в Архангельск, валить лес на сорокаградусном морозе — и снова с одним топором на бригаду{955} Все это Федорова описывает с полной безмятежностью: они взялись за дело с таким задором, что не обращали внимания на окружающие условия. В сильные холода просто старались работать быстрее.
Рис. 12. Т.В. Федорова (р. 1915) — работница Метростроя с отбойным молотком, сер. 1930-х гг. Источник: Федорова Т.В. Наверху — Москва. М, 1986Яковлев так же относился к условиям работы и так же гордился умением импровизировать. Он и еще 20 «энтузиастов» из его конструкторской группы собирали самолеты полукустарными методами, ютясь по углам на территории завода им. Менжинского, пока не добились собственного помещения весьма необычным способом: сконструированный ими легкий самолетик — «воздушный автомобиль» — приземлился на лугу перед дачей председателя ЦКК Я.Э. Рудзутака (1887-1938), убедив его в способностях молодых конструкторов{956}. Им отвели половину здания кроватной мастерской, которую сначала пришлось вычистить и оштукатурить, а потом защищать от начальства: только благодаря визиту Яковлева в редакцию «Правды» у его группы не отобрали приведенное в порядок помещение. И оборудование у них было импровизированное: для изготовления механических деталей самолетов они пользовались древним, разбитым токарным станком, на котором раньше делались кровати. Потом, наконец, начальник Метростроя П.П. Роттерт подарил им новый токарный станок{957}. Яковлев поясняет: «Лишь энтузиазм и желание во что бы то ни стало иметь хоть какой-нибудь, но свой уголок решили исход наших сомнений. Мы были молоды, полны жажды деятельности и страстно любили авиацию»{958}. Яковлев и Федорова видели в речах о героическом строительстве адекватную оценку собственного опыта. Подобно Поздняку и Чалых, мирившимся с браком как с временным феноменом первой пятилетки, и Яковлев, и Федорова с готовностью рассматривали нехватку техники как преходящее явление, которое добавляло их труду авантюрного духа.
Чалых, Малиованов и Лаврененко не героизируют подобный трудовой опыт, однако и они все-таки отражают два аспекта: с одной стороны, суровую необходимость находить решение проблем, с другой — известную гордость оттого, что ухитрялись справляться с ситуацией. Чалых пишет: «Современному человеку трудно представить себе условия, в которых тогда строились заводы. Не было ни экскаваторов, ни самосвалов, никакого источника механической энергии»{959} -На челябинском заводе под фундаменты обжиговых печей пришлось вручную вынуть 2 400 кубометров земли. Специальность «земляника», впоследствии отмершая, пользовалась тогда большим спросом.
Работали круглые сутки{960}. В 1934 г. Чалых стал начальником строительства Челябинского электродного завода (ЧЭЗ), для которого не существовало ни рационального планирования, ни необходимых средств. Местные предприятия не имели потребности в электродах, оправдывающей сооружение в регионе подобного завода, однако в 1931 г. решение о строительстве было принято: «Подобное положение предвещало электродному заводу жалкое существование. Судьба ЧЭЗ сложилась неудачно, в 1937 году ферросплавщики вообще отказались от электродов, которые он выпускал»{961}. Перед Чалых стояла задача приспособить план, составленный в Москве без учета местных условий, к реальной действительности. Это оказалось очень трудно, так как приходилось конкурировать с уже существующими предприятиями за весьма скудные водные и энергетические ресурсы: «Я оказался на положении пловца, которого обучали плаванию, бросив в глубокую воду и предоставив возможность самому выбраться на берег. До ввода завода в эксплуатацию оставалось немногим более года, и я стремился использовать это время для возможной корректировки проекта. Я не видел выхода из создавшегося тяжелого положения»{962}. Спасение пришло к Чалых в облике наркома Орджоникидзе. Посетив строительство, тот убедился в катастрофичности ситуации и велел И.Ф. Тевосяну (1902-1958) удовлетворить все требования Чалых. Благодаря этому последний смог заказать большую партию бетономешалок, электрического кабеля и газовых труб{963}Чалых и после распада Советского Союза продолжал считать, что строить в 1930-е гг., конечно, было тяжело, но людей переполняли оптимизм и жажда деятельности.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Инженеры Сталина: Жизнь между техникой и террором в 1930-е годы"
Книги похожие на "Инженеры Сталина: Жизнь между техникой и террором в 1930-е годы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сюзанна Шаттенберг - Инженеры Сталина: Жизнь между техникой и террором в 1930-е годы"
Отзывы читателей о книге "Инженеры Сталина: Жизнь между техникой и террором в 1930-е годы", комментарии и мнения людей о произведении.