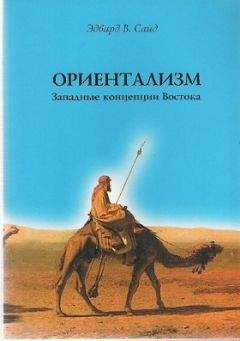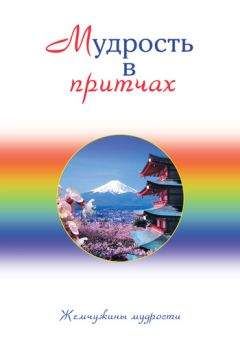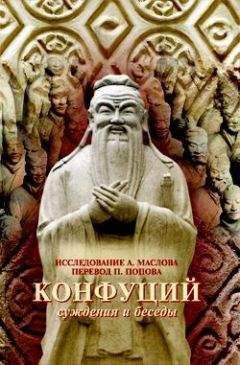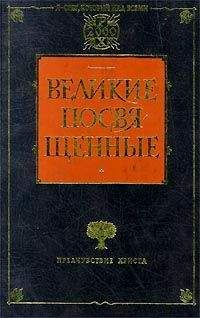Роман Светлов - Печальные времена. Дамаский Диадох как представитель афинской школы неоплатонизма
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Печальные времена. Дамаский Диадох как представитель афинской школы неоплатонизма"
Описание и краткое содержание "Печальные времена. Дамаский Диадох как представитель афинской школы неоплатонизма" читать бесплатно онлайн.
Для европейского Запада границей между античностью и «темными веками», предшествовавшими новому (средневековому) расцвету культуры, стало свержение последнего западноримского императора Ромула Августула; подобной границей для средиземноморского Востока явилось правление Юстиниана I (527—565 гг.). Грозная фигура неутомимого властителя, попытавшегося сцементировать державу на основе никейского православия и возвратить наследникам римского величия все, утерянное на Западе, вызывала и будет вызывать противоречивые суждения. Происходившая при Юстиниане «византийская реконкиста» — десятилетиями длившаяся борьба с германскими королевствами за Северную Африку, Италию, Испанию — менее чем на сотню лет вернула ромеям положение владык мира, омываемого водами Средиземного моря. Но в конечном итоге усилия Юстиниана подорвали силы государства. Уже при нем Византийская империя не смогла противостоять натиску славян, наводнивших ее территорию от Дуная до Пелопоннеса. А при Ираклии, пятом преемнике Юстиниана, арабы лишили византийцев последних надежд на мировое господство.
А вот что пишет Агафий Миринейский: «Там все они скоро увидели, что начальствующие лица слишком горды, непомерно напыщенны, почувствовали к ним отвращение и порицали их... В отношениях друг с другом [персы] обычно были жестоки и бесчеловечны... По всем этим причинам философы были недовольны и винили себя за переселение. Когда же переговорили с царем, то и тут обманулись в надежде, найдя человека, кичившегося знанием философии, но о возвышенном ничего не слышавшего. Мнения их не совпадали...» [35] Разочарование, несомненно, преувеличено: Агафий писал в годы правления Юстина II, а для этого императора переживший Юстиниана Хосров был опаснейшим врагом [36]. Образ варвара, лишь внешне интересующегося подлинной мудростью, предпочитавшего академикам — «цвету и вершине философии» — некоего кичливого пустослова по имени Ураний, имеет явную полемическую окраску. Все было гораздо сложнее.
Во-первых, сам Агафий сообщает, что даже «некоторые из римлян» утверждают, будто Хосров изучил труды Аристотеля и Платона, «что от него не ускользнули ни „Тимей”, хотя последний весьма богат геометрическими теориями и исследует движения природы, ни „Федон”, ни „Горгий” и никакой другой из красивейших и труднейших диалогов, такой, скажем, как „Парменид”»[37] Утверждения, подобные тем, что делали «некоторые из римлян», не появлялись на пустом месте. Тексты античных философов переводились на персидский язык [38], а кроме выходцев из Византии, сделать это не мог никто — следовательно, мы можем предположить наличие при шахском дворе научного «штаба» из высокообразованных эмигрантов.
Во-вторых, тот же Агафий говорит о тематике диспута, который Ураний вел с «магами»: «О творении и природе, о том, является ли все существующее вечным и можно ли признавать единое начало всего существующего» [39]. Рискнем предположить, несмотря на скрытую иронию Агафия, что разговор велся далеко не на обывательском уровне. Следовательно, он предполагал солидную образованность «магов», причем не только в экзегезе «Авесты».
В-третьих, мы знаем, что условия мирного договора, который Хосров заключил с Юстинианом в 532 году («вечный мир»), включали пункт, по которому возвращающимся на родину философам была обеспечена личная неприкосновенность, возможность выбора места жительства, пользования имуществом и исповедования веры, которую они выберут. Хосров заботился о Дамаскии и его учениках, чего не стал бы делать, выказывай они отвращение к персидским обычаям.
Наконец, мы знаем об одном примечательном событии, случившемся спустя несколько лет после отъезда академиков из Персии. В 540 году Хосров совершил неожиданное для занятых войнами на Западе византийцев вторжение в Сирию и захватил ее богатейший город — Антиохию. Разгром, которому персы подвергли этот город, был полный: сгорело большинство построек, были разрушены христианские церкви, за исключением загородного храма святого Юлиана. После этого Хосров дошел до Средиземного моря, а на обратном пути остановился в антиохийском предместье Дафна, где некогда располагалась школа Ямвлиха Халкидского. «Там огромное восхищение вызвали у него роща и источники. И та и другие, конечно, заслуживают удивления. Принеся жертву нимфам, он удалился, не причинив никакого другого вреда»[40] Принесение жертвы нимфам — это знак почитания божеств воды, которым поклонялись и зороастрийцы, но в данном случае оно совершалось, во-первых, по эллинскому обычаю, а во-вторых, в местах, слишком тесно связанных с историей языческой философской культуры, чтобы считать это событие совпадением.
Таким образом, академики вернулисьь на родину отнюдь не по причине отвратительности варварской жизни и грубости нрава Хосрова. Однако разочарование наверняка имело место: персидский государь остался верен собственной этнической традиции религиозной мудрости, компромисс между которой и мудростью эллинского язычества оказался невозможен [41]. На чужбине места философам не нашлось — возвращались они, возможно, в надежде на то, что, уступив Хосрову при заключении «вечного мира», Юстиниан вернет им их положение на афинских кафедрах. Но этого не произошло: центральное правительство в дальнейшем сквозь пальцы смотрело на незаметное существование языческих толкователей творений Платона и Аристотеля в Александрии, однако идеологический пресс был слишком силен, чтобы можно было ожидать возрождения полноценной философской школы.
Агафий Миринейский достаточно путанно рассказывает о возвращении философов. Практически все место занимает история с обнаружением академиками мертвеца, погребенного по зороастрийскому обычаю (так называемое «выставление»), да вещий сон одного из платоников (не названного по имени). Ни города, где в дальнейшем поселился Дамаский с учениками, ни времени, когда наш автор умер, мы не знаем. Возвращение на родину в 533 году — последнее событие в жизни Дамаския, о котором мы можем сказать что-то определенное. Едва ли он прожил достаточно долго для того, чтобы попытаться организовать новый кружок. Он оставил учеников, но история уже не дала возможности сформироваться особой, «Дамаскиевой», традиции в неоплатонизме. Ученики вынужденно были заняты сохранением и истолкованием богатств, накопленных античной философией за одиннадцать столетий ее истории, а не плодотворным развитием фундаментальных концепций учителя. Ибо древняя философия в их лице стояла на пороге самого тяжелого испытания, которое только может предложить судьба,— забвения [42].
* * *Прежде чем переходить к анализу философских воззрений Дамаския, нелишним будет взглянуть на общее умонастроение VI столетия. Неоплатонический трансцендентизм не был единообразен на протяжении всей своей истории; особенности учения Дамаския, возможно, будут видны более отчетливо, если мы удостоим внимания не только исторические условия, но и ту духовную атмосферу, в которой творил наш автор.
VI век — странное столетие. С одной стороны, произошло уже вполне строгое разграничение в мировоззренческих позициях. После правления Юлиана Отступника и реакции христианских государей на его реформы ни о каком симбиозе язычества и христианства не могло быть и речи. Все более ограничиваемое, загоняемое в культовое и интеллектуальное подполье, язычество стремилось к самосохранению и самоконсервации, но не к компромиссам. С другой стороны, задолго до начала царствования Юстиниана в христианстве выделились все основные направления (православие, арианство, несторианство, монофизитство), полемика, а подчас и политическая борьба между которыми определяли жизнь восточной церкви и Византии вплоть до эры междуусобиц иконоборцев и иконопочитателей[43]
И все же VI век — век поиска. Как свидетельствует Агафий Миринейский, рассуждения о природе Божества — излюбленная тема досужих любомудров, собиравшихся у дворцовых портиков Константинополя и в книжных лавках этого города [44]. Не менее любил порассуждать сам Юстиниан. В «Тайной истории» Прокопий Кесарийский говорит, что император «чрезмерно медленно совершал необходимые для дел приготовления и вместо заботы о них размышлял о возвышенном, излишне любопытствуя о природе Божества» [45]. Как мы видели, аналогичная ситуация наблюдалась и в Персии: Хосров проводил теологические диспуты, в которых участвовали и зороастрийские жрецы, и выходцы из Византии. То же самое было характерно и для остготской Италии: Теодат, государь, при котором началась экспансия Юстиниана на Запад, характеризуется Прокопием Кесарийским как «человек, изучивший платоновскую философию». О себе же сам историк говорит следующее: «С детства я был охвачен любовью к философским беседам и всегда занимался этой наукой...» [46]
Однако когда государь начинает испытывать тягу к догматическому богословию, он легко может сделать свое слово последним и абсолютным. Юстиниан был непримирим к еретикам и язычникам, Хосров — к последователям Маздака. Точно так же монофизиты были непримиримы к православным, несториане — к монофизитам, ариане (в минувший уже период своего пребывания у власти) — ко всем инакомыслящим вообще. Кровь, пролитая в прошлом, никак не может быть залогом истинности выбора. Истина внеположна политике. Именно поэтому искания сопровождались духовной усталостью и скептицизмом.
Пожалуй, в раннем средневековье нет столетия, более склонного к своеобразному скепсису, чем шестое. Сирийский софист Ураний, о котором Агафий пишет как о человеке, более других византийцев приблизившемся к Хосрову, «желал поддержать так называемое скептическое учение, давать ответы по Пиррону и Сексту [47] и, наконец, внести положение о том, что нельзя знать ничего достоверного» [48]. Сами Агафий и Прокопий, чьи сочинения в большей степени, чем какие-либо иные источники, донесли до нас дух кровавого гигантизма века Юстиниана, сомневаются в возможности познать волю, промысел и природу Божества. Прокопий вполне в духе античной трагедии говорит о неосмысляемой власти судьбы, являющейся подлинным собственником всего, что человек считает своим [49]. Агафий утверждает, что событиями правит потусторонняя (следовательно, непознаваемая) необходимость [50]. Он же ставит под большой вопрос все претензии догматической учености: «Думать же и уверять себя, что можно постигнуть сущность вещей, было бы самоуверенностью и невежеством, вдвое превышающим незнание» [51]. В рассуждениях историков чувствуется пресыщенность теологическими баталиями, так часто оборачивающимися кровопролитием.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Печальные времена. Дамаский Диадох как представитель афинской школы неоплатонизма"
Книги похожие на "Печальные времена. Дамаский Диадох как представитель афинской школы неоплатонизма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Роман Светлов - Печальные времена. Дамаский Диадох как представитель афинской школы неоплатонизма"
Отзывы читателей о книге "Печальные времена. Дамаский Диадох как представитель афинской школы неоплатонизма", комментарии и мнения людей о произведении.