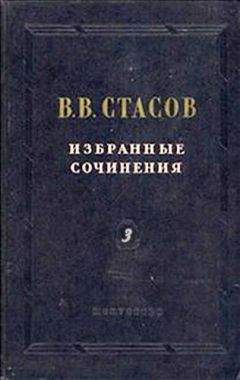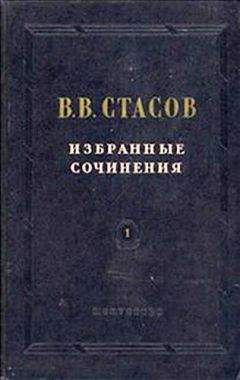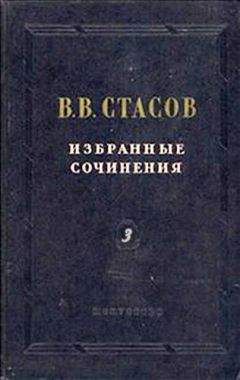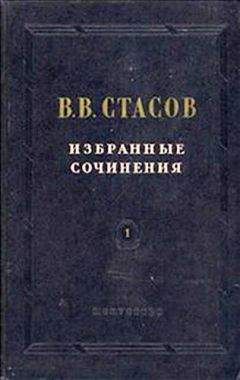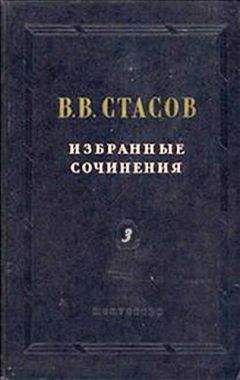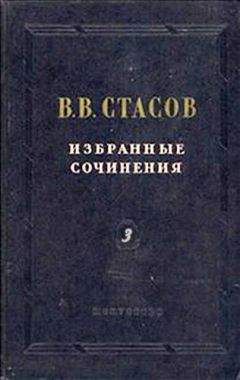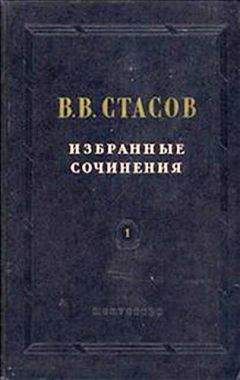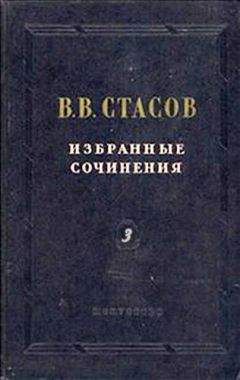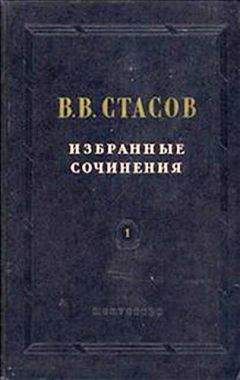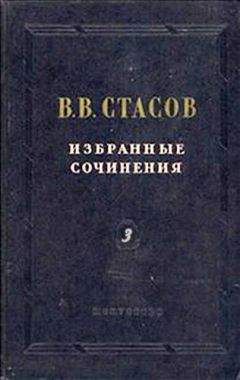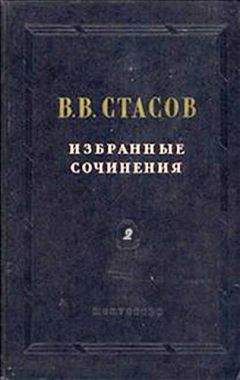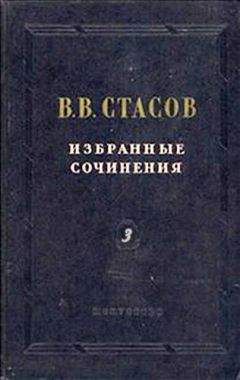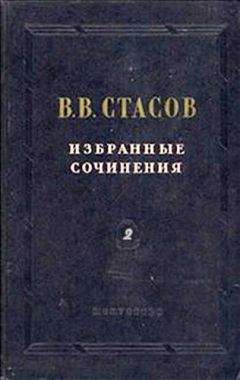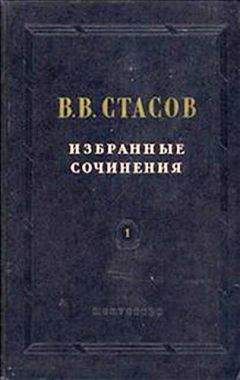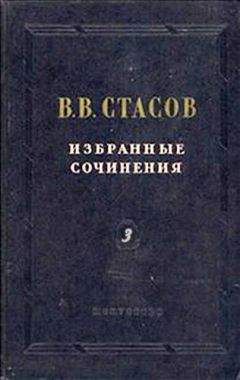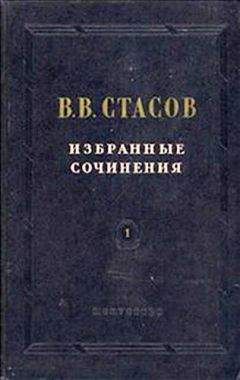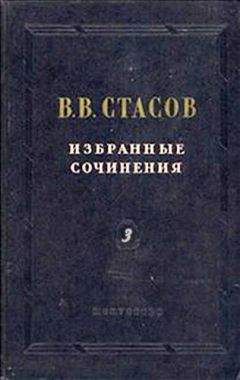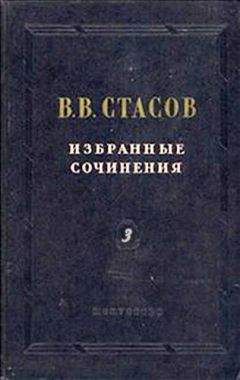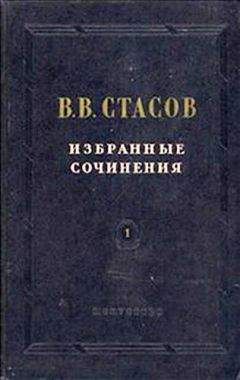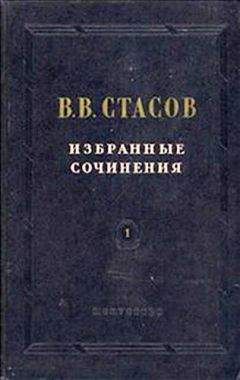Владимир Стасов - Искусство девятнадцатого века

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Искусство девятнадцатого века"
Описание и краткое содержание "Искусство девятнадцатого века" читать бесплатно онлайн.
Но от его колоссального почина соотечественники, безумно скачущие и мечущиеся около «телчья» идола, словно древние евреи у подножия Хорива, только отвертывались с досадой и презрением, еще хуже, чем от «Руслана», даром, что их же великодушная общественная «подписка» дала возможность слышать эту вещь на сцене. «Каменного гостя» не хотели, да еще и теперь не хотят знать у нас, а в остальной Европе даже еще и краем уха его не слыхали. Но кто верует в светлую денницу впереди, уже различает первые ее лучи на горизонте, и его надежда на будущее торжество «Каменного гостя» во всем музыкальном мире — непобедима. Не вечно же царство мрака и слепоты.
Европа мало-помалу уверовала в Рихарда Вагнера и его новые формы: хотя с великой натугой и усилиями, но приняла многие его реформы и уже не дичится их и не жалуется. Но задачи Вагнера были далеко неполны и несовершенны, и исполнены были им, точно так же далеко неполно и несовершенно. При своем безмерном идеализме, он совершенно не понимал «прямого выражения музыкой — слова», он вполне игнорировал «жизненную правду». Как же не веровать в то, что однажды войдет в плоть и кровь Европы вся та музыкальная правда, свобода интонаций, не стесняемая никакими традициями, правилами и привычками, вся та жизнь правдивого звука, для которой пришло теперь время и очередь на смену прежних систем, привычек и заблуждений.
Даргомыжский создал в своем «Каменном госте» не одну только «правдивую», жизненную речь. Он создал там многое другое еще наравне с великим товарищем своим Глинкой. Он создал в своей музыке полные и вернейшие характеры человеческие, с правдивостью и глубиною истинно шекспировской и пушкинской; он дал бесконечную последовательность сцен, где несравненно более, чем у Вагнера, в самых смелых его попытках, нарисована физиономия и характеристика личностей, где помимо всякой «бесконечной мелодии», помимо всяких нелепых и безобразных «лейтмотивов» рисуются черты человеческие, индивидуальные, условленные временем, местом, моментом, сменяющимися внезапно настроениями, скачками мысли, чувства, страсти. Здесь Даргомыжский — несравненен и беспримерен. Он для оперы то же, что Лист для симфонии. Он разрушает все условные правила и формы. Так далеко никогда Вагнер не ходил. Он все-таки (особливо под конец жизни) приносил жертвы традиционным, формальным хорам (в «Гибели богов»), маршам (в «Тангезере», «Лоэнгрине», похоронах Зигфрида), условным дуэтам (в «Тристане и Изольде») и т. д. Даргомыжский был несравненно шире, глубже и последовательнее в своих революциях и реформах. Он нигде ни на единую ноту не сдал из своей программы и остался строгим, неподкупным драматиком, провозгласителем и водворителем «жизненной правды». Ко всему этому он прибавил целую сокровищницу новых ритмов, своеобразных. рисунков и очертаний, наконец, совершенно оригинальное употребление гаммы целыми тонами (явление Командора), не взирая на то, что уже и Глинка гениально создал и ввел, только в другом рисунке, подобную же гамму в своем «Руслане» для полета Черномора.
Да, невозможно твердо не веровать, что придет время, когда гений Даргомыжского будет сознан во всей его силе и великости и, наконец, осенен будет всею славою, которой давно заслуживает.
70
Еще при жизни Глинки и Даргомыжского, около середины XIX века, началось в нашем отечестве великое новое музыкальное движение. В Петербурге образовался музыкальный союз нескольких юношей, одушевленных мыслью о необходимости нового направления в музыке и нового движения ее вперед. Конечно, всякий давно заметил, что XIX век любил, более всех предыдущих, ассоциации или товарищества молодых людей, даровитых и стремящихся победить царствующую в их деле рутину. Таких ассоциаций указать можно немало. В первой четверти XIX столетия возникло в Риме Товарищество назареев (живописцы); во второй четверти, вблизи Парижа, — Товарищество барбизонцев (живописцы); во второй же четверти, в Лейпциге, — Товарищество царя Давида (Davidsbündler) (музыканты), в начале 70-х годов — Товарищество передвижников, в Петербурге (живописцы); в конце 50-х годов, в Петербурге же Товарищество Балакирева (музыканты). Все эти товарищества достигли великих целей и много сделали для успеха своего дела. Как было всегда до них (да, вероятно, будет и всегда впредь) Товарищество Балакирева было встречено сначала недоверием, потом насмешками и презрением. Не было конца глумлению и преследованиям. Их окрестили даже, по инициативе Серова, который терпеть их не мог, презрительным прозвищем «могучей кучки», и одно это название казалось большинству (худшей и невежественнейшей половине) русской публики вполне достаточным для уничтожения презренного врага. Но, сверх того, их постоянно прозывали «невеждами», «дилетантами», ревностно распускали о них глупую клевету, что они «гонители истинной музыки», «враги музыкальной науки и знания», величали их «дерзкими самохвалами» и неприличными «превозносителями» один другого. Концертов Бесплатной школы, около которой они группировались, не хотели знать, их избегали и над ними трунили. И все-таки, подобно прочим европейским художественным товариществам, Товарищество Балакирева взяло свое. Оно победило и публику и музыкантов, оно посеяло новое благодатное зерно, давшее вскоре потом роскошнейшую, плодовитейшую жатву. Все прежние враги, темные и неразумные, поджали хвост — и навеки.
Балакиревское товарищество завоевало себе прочное почетное положение во мнении не только России, но и Европы.
Заслуги этого товарищества были очень многочисленны и очень важны. Прежде всего, оно признало своим главой и краеугольным камнем русской музыки — Глинку, в то время еще непонимаемого, игнорируемого и даже немало преследуемого; оно взяло себе задачей — распространение справедливого понимания и оценения Глинки; оно взяло себе задачей водворение в современной русской музыке «национальности», после Глинки почти вполне оставленной в стороне; наконец, оно взяло себе задачей подобное же распространение игнорируемых и мало ценимых Берлиоза, Листа и Шумана и, вместе с тем, оно повело энергическую, непримиримую войну с безумною русскою итальяноманией, превосходившей, по своему фанатизму, итальяноманию всех других стран Европы.
Удачное выполнение этих чудесных задач — это ли еще не великая заслуга перед историей и искусством?
Началось дело с того, что приехал в Петербург из Нижнего-Новгорода юноша, Милий Балакирев, талантливый по натуре и сам себя образовавший с юных лет. Несмотря на свои 18 лет, он имел уже очень определенный и строго последовательный образ мыслей. Он никогда не изменился в этих мыслях во все 40 с лишком лет, что прошли с тех пор. Что он тогда любил, обожал, признавал высоким в музыке, то он признавал и во всю жизнь свою впоследствии; чего не любил, от чего тогда отвертывался с антипатией или презрением, то так и осталось для него с тем же значением и впоследствии. Его образ мыслей и понятий по музыке был самостоятелен и оригинален, и для критического определения достоинства или недостоинства музыкального произведения он не взирал ни на какой авторитет, как бы он стар и общепринят ни был. Он был неподкупен в этих своих суждениях и, употребляя старинную русскую поговорку, он не мог быть пронят, помимо своей собственной мысли, «ни крестом, ни пестом». Таким образом, это был настоящий глава, предводитель и направитель других. Счастливое стечение обстоятельств сделало то, что он встретился в Петербурге с несколькими другими молодыми людьми, которые были даровиты, оригинальны и способны думать о своем искусстве и рассуждать о будущности музыки, о необходимости нового ее направления. Они все вместе запряглись в одно общее дело и произвели на свет много нового, значительного и самостоятельного. Но только именно теперь, после 40 лет деятельности, можно оценить всю важность почина Балакирева и все значение дороги, им с товарищами пройденной.
Нельзя, мне кажется, сомневаться нынче в том, что, не будь Балакирева, судьбы русской музыки были бы совершенно другие, чем те, какие создались в русской художественной истории. Собравшаяся около Балакирева и от всего сердца доверявшаяся ему молодежь была сильно талантлива и поэтому даже и сама по себе, помимо него, наверное произвела бы на своем веку много высокого, поэтического и замечательного. Только все это имело бы иной характер. Из времен Глинки был на свете еще один только композитор, Даргомыжский, и тот всю жизнь устремлялся к задачам не национальным, не русским, общеевропейским. Даже последнее, высшее его создание, «Каменный гость», — внушено было ему сюжетом испанским. Высшие по таланту его романсы, «Капрал», «Паладин», восточные две песни, высшее инструментальное его создание «Чухонская фантазия», все сложились на сюжеты французские, немецкие, арабские, финские; собственно русское в «Русалке» (два прекрасные хора первого действия: «Как на горе мы пиво варили», «Заплетися плетень», прелестная песнь свата) и в «Малороссийском казачке» являлось только редким исключением. Всего более истинно русского проявилось у Даргомыжского в комических его песнях или романсах на русские современные сюжеты: «Титулярный советник», «Червяк», «Мельник», и это собственно «русское», хотя и было чудно-характерно и поразительно талантливо, но значило так мало в нравах и потребностях современного Даргомыжскому русского общества, что нашло только двух последователей и продолжателей даже и до сих пор: Мусоргского и Бородина. Вообще говоря, вся самая талантливая наша молодежь первых 60-х годов начинала с сюжетов нерусских: «Саламбо», «Саул», «Эдип», «Intermezzo», «Preludio» Мусоргского, 1-я симфония и романсы Римского-Корсакова, первые инструментальные композиции и романсы Бородина, который и сам признавал себя за те времена «ярым мендельсонистом». Спустя лишь несколько времени начался у каждого из этих талантливых людей период «национальности» в творчестве. Без сомнения, все они трое носили от самого рождения своего задатки и элементы народного творчества в натуре своей. Этих элементов никто никому не может ни передать, ни вложить, ни внушить: с ними родятся. Без сомнения, и Мусоргский, и Римский-Корсаков, и Бородин рано или поздно непременно обратились бы в композиторов народных по глубокому требованию своей собственной натуры. Но это могло быть замедлено, даже временно отставлено в сторону под влиянием общего тогдашнего настроения, вкусов и музыкальных мод, а, наконец, даже и возникшей в начале 60-х годов консерватории. Но своим решительным, увлекательным указанием и внушением Балакирев произвел непобедимое влияние на юных товарищей и образовал из них и с ними новую национальную русскую музыкальную школу. Он их учил и воспитывал, уча и воспитывая в то же время и самого себя. Не взирая на свою большую еще молодость, он приехал в Петербург не учеником, даже, так сказать, не «музыкальным гимназистом», не «музыкальным студентом», а целым молодым «профессором» и «приват-доцентом» русской национальной музыки. Сколько он знал и понимал в музыке, столько не знали и не понимали, кажется, все значительнейшие русские музыканты того времени, вместе взятые. В нем жило в высоком развитии то качество, которое всего дороже для музыкального главы: собственная, ни откуда не заимствованная смелая, сильная мысль, способность схватывать и оценивать. Своих юных товарищей, сначала Кюи и Мусоргского, а несколько позже также и Римского-Корсакова и Бородина, Балакирев, познакомил со всем, что в музыке создано до сих пор самого великого и бессмертного, начиная с Баха и Генделя, Бетховена, Вебера и Франца Шуберта — и до наших дней. Всего более он останавливался с ними в своих изучениях (впрочем, согласно и с собственными вкусами всей этой талантливой и высокоинтеллектуальной молодежи) на созданиях страстно любимых им Берлиоза, Листа, Шумана и Шопена — на Западе Европы, но, сверх того и в особенности, — Глинки — на Востоке ее, в нашей России. Критика и оценка музыкальных созданий являлась у Балакирева столько же смелою, сильною и оригинальною, как у его предшественника — Глинки. Никто другой у нас, раньше Балакирева, не осмеливался оставаться независимым и неподкупным к давно и повсюду признанным авторитетам и не решался переоценивать их по собственному своему нынешнему чувству и понятию. Глинка «осмеливался» смотреть смелыми глазами даже на создания Моцарта и Вебера — заповедные даже для такого сильного и самостоятельного ума, как Шуман, но Балакирев взвешивал и оценил с такою же бесстрашной смелостью все вообще явления музыкального мира нашего века. С таким «символом веры» в душе новое товарищество русских «Davidsbündler'ов» скоро сложилось с несокрушимой силой и твердостью и никогда уже не сходило вниз со своих великих краеугольных камней. Это товарищество выросло, поднялось и окрепло на руках и под наитием Балакирева. Никакие враждования всего почти русского общества, никакие нападки ограниченности и интеллектуальной скудости со стороны публики и критики не способны уже были потрясти могучих бойцов, и они с несокрушимой энергией продолжали свое дело. Но впоследствии, сознав свои силы и ощутив свои крылья, молодые русские композиторы из общего гнезда поднялись и выступили в разные стороны и понеслись каждый к своим особенным целям и задачам. «Яйца, которые несет курица (писал однажды Бородин) все похожи друг на друга; цыплята же, которые выводятся из яиц, бывают уже менее похожи друг на друга… Так и у нас. Общий склад музыкальный, общий пошиб, свойственный кружку, остались, а затем каждый из нас имеет свой особенный личный характер, свою индивидуальность. И слава богу!» И это верное сравнение понимал, конечно, лучше и больше всех сам Балакирев, родоначальник и воспитатель всех членов кружка. Он мог, конечно, только радоваться на великую жатву и восхищаться ею.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Искусство девятнадцатого века"
Книги похожие на "Искусство девятнадцатого века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Стасов - Искусство девятнадцатого века"
Отзывы читателей о книге "Искусство девятнадцатого века", комментарии и мнения людей о произведении.