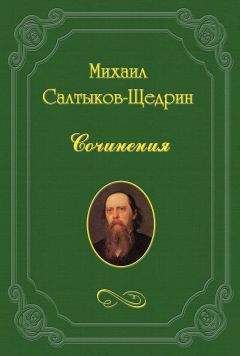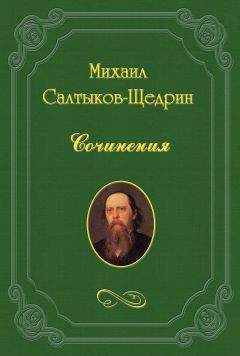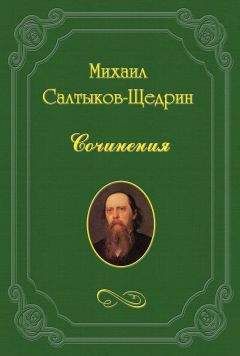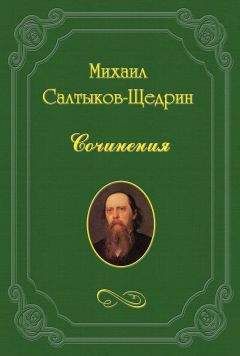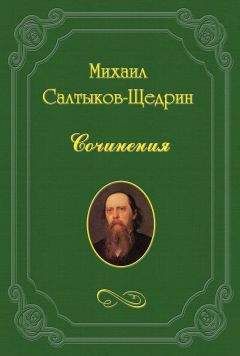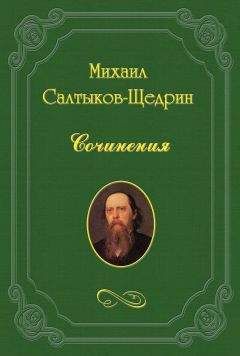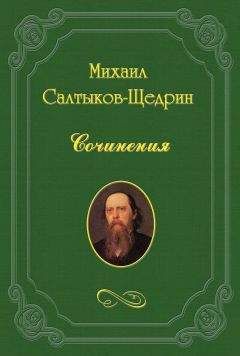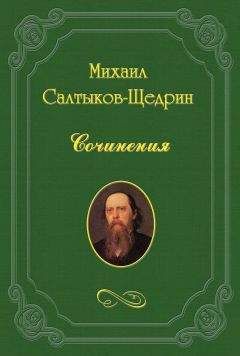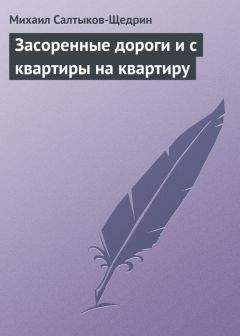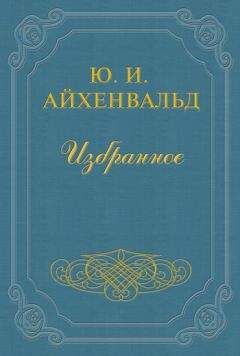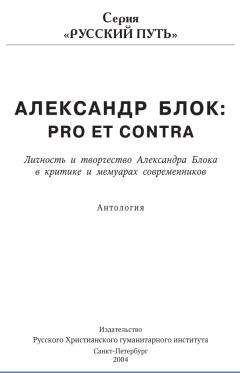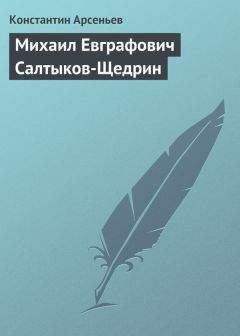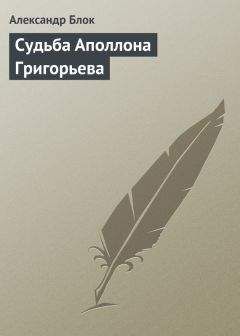Р. В. Иванов-Разумник - М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество"
Описание и краткое содержание "М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество" читать бесплатно онлайн.
И еще коечто в повести сделано не плохо — фигуры родителей Тани, Игнатия Кузьмича и Марьи Ивановны Крошиных. Выше приходилось уже упоминать, что, рисуя их, Салтыков набросал первый отдаленный портрет собственных своих родителей. Ворчливый старый муж, находящийся под сапогом у своей жены, „женщиныкулака“, может отводить душу только ругательствами: „Экой собачий нрав!.. Всё бы мутила, да пакостила! Чорт, право чорт, прости господи мое прегрешение! сатана сидит у тебя в сердце, сударыня!“ (стр. 49).
Не только эта ситуация, но и самые эти слова будут впоследствии вложены Салтыковым в уста старика Головлева („Господа Головлевы“) и старика Затрапезного („Пошехонская старина“), в фигурах которых он также обрисовывал своего отца. А о том, что Марья Ивановна Крошина является первым абрисом Анны Павловны Затрапезной, написанной во весь рост ровно через сорок лет после этой первой повести — приходилось уже говорить выше. Юность, проведенная в бедности, подчиненность всем и каждому, брак со старым и безвольным мужем, страсть к „благоприобретению“, „женщинакулак“ — все это списано с матери автора, Ольги Михайловны Салтыковой, и впоследствии развилось в яркий и выпуклый портрет в позднейших произведениях сатирика. Впрочем, в этой своей первой повести он говорил, что рисует не портрет, а тип: „такой тип женщиныкулака встречается весьма часто и особенно в провинциях, где жизнь женщины исключительно сосредоточена в узеньких рамках фамильных ее отношений“ (стр. 11).
Впоследствии Салтыков очень иронически относился к этой своей повести и сам вышучивал ее и в своих произведениях, и в отдельных отзывах. В своей последней автобиографической записке 1887 года он сообщал, например, спутав даже заглавие повести: „Первую повесть „Недоразумение“ под псевдонимом Непанов я напечатал в Ноябрьской книжке Отеч. Зап. 1817 г. Помнится, Белинский назвал ее бредом младенческой души“. В четвертой главе „Дневника провинциала в Петербурге“ (1872 г.) автор иронически рассказывает о своей повести „Маланья“, написанной в сороковых годах; в шестой главе приводится некая маленькая новелла, написанная в те же далекие годы и о которой Белинский якобы сказал, что это „бред куриной души“. Белинский действительно выразился о „Противоречиях“ начинающего автора весьма резко, назвав эту повесть „идиотской глупостью“ [40]; этот отзыв, находившийся в письме Белинского к Боткину от 5 ноября 1847 г., стал известен Салтыкову к конце шестидесятых годов, когда письмо это впервые было напечатано, хотя и с некоторыми пропусками. Но и сам Салтыков, повидимому, очень скоро стал относиться к своей юношеской „Маланье“ вполне отрицательно. Свою вторую юношескую повесть, „Запутанное дело“, он включил позднее в том „Невинных рассказов“ (1863 г.), которые впоследствии целиком вошли и в его собрание сочинений; первую же свою пробу пера, „Противоречия“, он впоследствии никогда не перепечатывал, не включил ни в один из своих сборников, и она до сих пор остается совершенно не известной читателям собрания сочинений Салтыкова. И если Белинский в своем отзыве был, быть может, слишком строг, то Салтыков, не включая эту повесть в ряд позднейших своих сочинений, был во всяком случае прав [41].
V„Запутанное дело“ появилось в тех же „Отечественных Записках“ через четыре месяца после первой повести Салтыкова, а именно в мартовской книжке журнала за 1848 год (стр. 50120). Надо признать, что за это короткое время автор сделал значительный шаг вперед; недаром он впоследствии, вычеркнув „Противоречия“ из числа своих сочинений, счел возможным сохранить среди них „Запутанное дело“. Молодой автор не мало, надо думать, трудился над новым своим произведением; так можно судить по крайней мере по сохранившемуся отрывку черновой рукописи его. Рукопись „Противоречий“, к сожалению, не сохранилась; но от „Запутанного дела“ до нас дошли 4 полулиста автографа, представляющего собой черновик самого начала повести [42]. Изучение этого черновика дает настолько значительные разночтения с печатным текстом, что последний может считаться основательно переработанным. Так, например, в черновой редакции было лишнее, хотя и эпизодическое, действующее лицо, Арина Тимофеевна, мать Мичулина, героя повествования; подробно рассказывалось в черновой рукописи о проводах Мичулина из родительского дома в столицу. Вообще же черновая рукопись представляет собою очень подробное вступление, в печатном тексте сведенное лишь к немногим строкам. Молодой автор, как видно, много работал над этой второй своей повестью, которую на этот раз решил подписать не псевдонимом, а первыми буквами своего имени и фамилии: М. С.
Форма повести была уже значительно менее разорванной к куда более стройной, чем форма растянутых и утомительных „Противоречий“, но автор и здесь не нашел еще своего пути, и здесь еще находился под перекрестным влиянием многочисленных образцов, — главным образом Гоголя, Достоевского, Панаева и Кудрявцева. Особенно сильным было влияние Достоевского, подражанием „Бедным людям“ и „Двойнику“ которого может считаться вся эта повесть Салтыкова. Мало того, подражание и заимствование доходило иногда до мелочей. Вот пример. В сентябрьской книжке „Современника“ за 1847 год было напечатано стихотворение Некрасова „Еду ли ночью по улице темной“ (стр. 153); мрачная картина, нарисованная Некрасовым, произвела, повидимому, большое впечатление на Салтыкова. В стихотворении Некрасова рассказывается, как мать продает себя, чтобы купить гробик своему только что умершему ребенку и накормить его голодного отца. Всю эту сцену за исключением только смерти ребенка, Салтыков с буквальной подлинностью перенес из стихотворения Некрасова в свое „Запутанное дело“, лишь детализировав эту сцену. В кошмаре героя повести, Мичулина, предполагаемая жена его Наденька идет продаваться богатому старику и возвращается с едой для мужа и сына (стр. 74–77 по журнальному тексту). Надо сравнить слово за словом эту сцену повести Салтыкова со стихотворением Некрасова, чтобы увидеть, насколько первая является точным повторением и почти списком второго.
К этой сцене мы еще вернемся, так как Салтыков осложнил ее целым рядом привходящих подробностей, которые и оказались главными обвинительными пунктами против этой повести при ее разборе в Меншиковском и Бутурлинском комитетах; тем более характерно то обстоятельство, что эту сцену, одну из центральных сцен всей повести, Салтыков заимствовал из появившегося полугодом ранее стихотворения Некрасова. Если прибавить к этому ряд подражаний другим авторам, о чем уже было сказано выше, то вывод напросится сам собой: Салтыкову не доставало выдумки, пока он писал в шаблонных формах несродной ему психологической повести, большим мастером которой оказался около этого же времени Тургенев. Салтыков еще не умел отыскать своего пути, и на произведениях его отражалось то самое влияние повестей Панаева и Кудрявцева, о котором сам он говорит в своей автобиографии и которое еще станет когданибудь предметом детального изучения историков литературы. Лишь найдя свой собственный путь, — а это случилось через много лет после „Запутанного дела“, — Салтыков показал, какой неисчерпаемой выдумкой обладает он, превосходя в этом, быть может, всех остальных русских писателей.
Но это случилось лишь спустя долгие годы; пока же Салтыков продолжал оставаться верным учеником „натуральной школы“ сороковых годов, осложнившей старую психологическую повесть введением социальных мотивов, как основных элементов повествования. Тема об униженных и оскорбленных, только что поставленная Достоевским в первых своих произведениях, произвела потрясающее впечатление на читателей, — и среди читателей этих был, конечно, и Салтыков. Ровно через тридцать лет сам он так вспоминал об этой эпохе своей юности и первых писательских попытках:
„Я принадлежу к поколению, которое воспитывалось на лоне эстетических преданий и материальной обеспеченности. Конечно, и мы не всегда оставались верными чистоэстетическим традициям, но по временам делали набеги на область действительности… нет, впрочем, не туда, а скорее в область „униженных и оскорбленных“. Но, под прикрытием обеспеченности, эти набеги производились словно во сне, без строгой последовательности, порывами…“
Как видно из этих слов, взятых из очерков Салтыкова „Чужой толк“ и „Дворянские мелодии“, произведений конца семидесятых годов (о них будет речь во второй части, в главе, посвященной циклу „В среде умеренности и аккуратности“), Салтыков склонен был впоследствии относиться иронически к этим „дворянским экскурсиям“ в область социальной проблемы; он указывал, что „под прикрытием обеспеченности“ экскурсии эти производились порывами, которые родили много „проходимцев и негодяев“, и в лучшем случае — „просто бессильных и неумелых людей“. Надо перечитать эти названные выше очерки Салтыкова конца семидесятых годов, чтобы составить представление о позднейшем отношении его к этим былым „экскурсиям в область униженных и оскорбленных“: именно этой теме, главным образом, и посвящены связанные между собою „Чужой толк“ и „Дворянские мелодии“. Но тут же надо подчеркнуть, что окончательного обвинительного приговора этим былым „экскурсиям“ Салтыков не вынес; наоборот, несмотря на всю их безответственность, он видел в них единственный луч света, который мерцал в сороковых годах. „Ты думал, что экскурсиито наши — пустопорожнее место? — спрашивал он там же устами своего друга Глумова. — Нет, мой друг, это сила, большая сила! От них свет пролился! Я знаю, что нынче принЯ-то относиться к там с пренебрежительною снисходительностью, что большинство даже несомненно порядочных людей совсем позабыло об тех, но знаю также, что к ним еще возвратятся… наверное! Потому что в них — свет! свет! свет!“
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество"
Книги похожие на "М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Р. В. Иванов-Разумник - М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество"
Отзывы читателей о книге "М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество", комментарии и мнения людей о произведении.