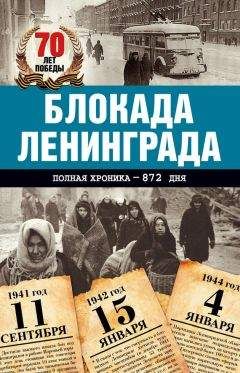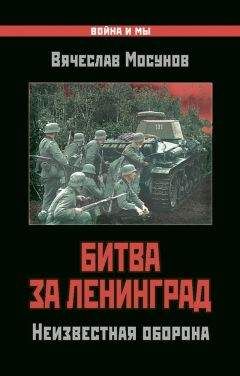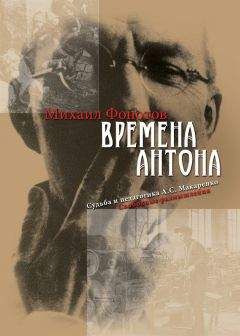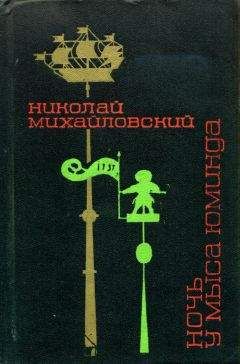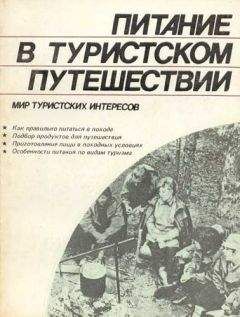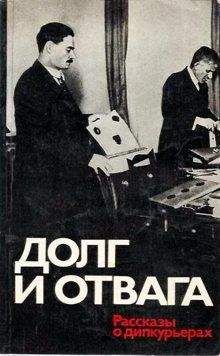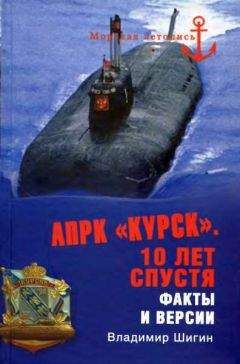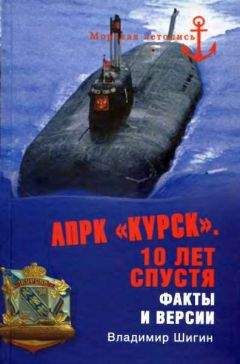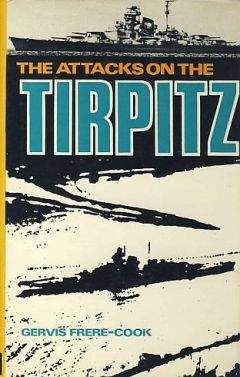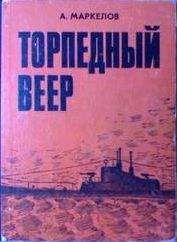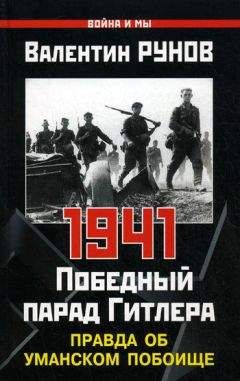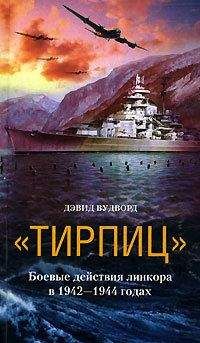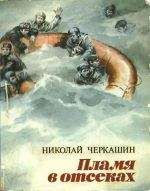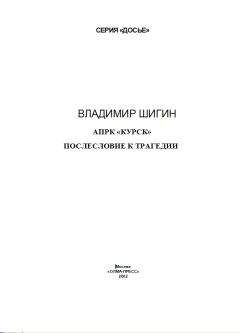Николай Михайловский - Штормовая пора
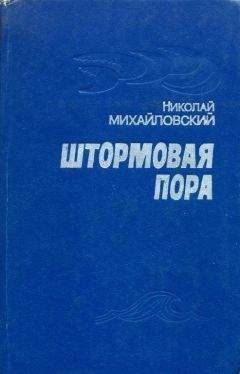
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Штормовая пора"
Описание и краткое содержание "Штормовая пора" читать бесплатно онлайн.
Писатель Н. Г. Михайловский широко известен своими книгами «Таллинский дневник», «Девять баллов». «Мы уходили в ночь», «С тобой, Балтика», «Высокие широты», «Всплыть на полюсе», «Этот долгий полярный день» и др.
«Штормовая пора» знакомит читателя с малоизвестными страницами истории обороны Таллина, Ленинграда, рассказывает о первых бомбежках Берлина морскими летчиками в августе 1941 года.
Книга дополнена новыми очерками о маршале К. К. Рокоссовском, об адмирале В. П. Дрозде, о подвиге экипажей крейсера «Киров» и линкора «Марат», о писателях и журналистах, сражавшихся под Ленинградом.
Пьеса Александра Крона «Офицер флота» о проблеме становления нового советского офицерства до сих пор идет в театрах, напоминая о славном прошлом.
«Работа над пьесой проходила в условиях, которые в мирное время показались бы мне немыслимыми, — вспоминает А. А. Крон. — Тогдашний начальник Пубалта Волков отвалил мне на написание четырехактной пьесы ровным счетом один месяц и был крайне недоволен, когда я попросил два. Чтоб меня не отвлекали посторонними делами, я с разрешения начальства поселился в промерзшей «Астории», в маленьком номеришке, выходящем окнами в закоулок двора — преимущество немалое, учитывая артобстрелы и бомбардировку с воздуха. Раз в сутки я шел с судками на береговую базу подплава и забирал свой суточный рацион. Однажды, когда я возвращался обратно, меня основательно тряхнуло взрывной волной, и я на короткое время потерял сознание. Помню только, что, спускаясь на тротуар, я больше всего думал о том, чтобы не разлить макаронный суп, составляющий основу моего обеда. И, очнувшись, первым делом убедился в том, что судки не потекли. Температура в номере падала ниже нуля, чернила замерзали в чернильнице, а авторучки у меня не было. Электричество часто гасло, и тогда приходилось зажигать коптилку. Но все равно писать в «Астории» было лучше, чем в управлении или даже на корабле».
И очень важно еще одно признание Александра Крона:
«…Я был профессиональным драматургом и не был кадровым моряком. Говорят, что тот, кто вдохнул запах кулис, отравлен на всю жизнь. За последние годы я разлюбил театр. А запах корабля волнует меня по-прежнему».
Во время блокады родилась талантливая и злободневная пьеса Вс. Вишневского, А. Крона и Вс. Азарова «Раскинулось море широко», пользовавшаяся огромным успехом. Она ставилась в Академическом театре имени Пушкина, где было большое вместительное бомбоубежище. Зрители приходили в овчинных полушубках, валенках, сидели, не раздеваясь, положив противогазы на колени. Если среди действия раздавался сигнал воздушной тревоги, занавес закрывался, и все шли в бомбоубежище. Иногда тревога продолжалась часа два, в таких случаях зрители досматривали спектакль на другой день. Нет, музы не молчали. Они тоже были в строю и работали для грядущей победы.
Наш шеф — Управление политической пропаганды флота помещалось в одном здании с нами. Начальник его дивизионный комиссар Владимир Алексеевич Лебедев понимал всю сложность труда писателей и журналистов. Узнав, что Вишневский хотел бы нас всех собрать и поговорить о работе, он горячо поддержал эту идею, приказав отпустить всех наших товарищей с далеких боевых участков, обеспечить их транспортом и продовольствием.
И вот в просторной академической аудитории 6 февраля 1942 года днем начали собираться участники «ассамблеи» и гости, кто приезжал, а кто приходил «на своих двоих» из разных концов города. Все уселись за столиками подобно тому, как сидели здесь слушатели академии.
Начальник Политуправления В. А. Лебедев, открывая совещание, обратился к нам с такими словами:
— Пубалт очень ценит вашу работу. Признателен за все, что вы сделали… Все, кого я здесь вижу, прошли боевую проверку и оказались достойными высокого звания советского писателя.
Затем поднялся Вишневский — выбритый, надушенный, праздничный, каким мы его не видели со времен Таллина. И говорил он с присущей ему горячностью, душевной страстью, рисуя картину жизни флота и на этом фоне работу балтийских писателей…
Он напомнил о патриотическом настрое русской маринистской литературы, начиная с песен и сказов петровского времени, Марлинского, Гончарова, Станюковича, рождении революционной морской литературы, ее неразрывную связь с партией большевиков и протянул ниточку к нашим дням, стараясь дать трезвый критический анализ того, что мы делаем и как делаем…
— Часто мы пишем: столько-то истребили, столько-то взяли в плен. Это не раскрывает суть военного подвига, не дает представления о природе современного героизма. У меня в памяти наш прорыв из Таллина в Кронштадт. Мы шли через минные поля. Было очень тяжело. Коммунисты и комсомольцы бросались за борт и руками отталкивали мины. Слышу, как кто-то тяжело плывет, шлеп-шлеп… Матросу бросают конец. Слышно его прерывистое дыхание, затем голос: «Отставить конец, вижу мину, пойду ее убрать…» И он идет во мрак спасать корабль… Он один на один вступает в борьбу с этой миной, зная, что находится на волоске от смерти… Вот что такое героизм сегодня… А как мы об этом пишем? Мало и плохо, не умея говорить с той внутренней неукротимой силой, которая характерна для классической русской литературы — для Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского. Не жгут глаголом сердца людей, и себя не мучают, не раздирают свою душу… А ровный, небеспокоящий разговор — это не литература, друзья…
Почти все наши товарищи выступили.
— Все мы держим решительный экзамен — тот, кто выдержит его, будет Героем с большой буквы. Кто не выдержит — выйдет в тираж. Мир в огне — мы идем по нему — будущие победители — и нам неведомо знать, кто останется в рядах, кто падет. Кто увидит реальную победу, кто умрет с верой в нее… — это были слова Анатолия Тарасенкова.
Закончилась официальная часть, и место на трибуне заняли поэты. Впервые мы услышали главы из только что законченной поэмы Веры Инбер «Пулковский меридиан». Всеволод Азаров читал стихи о моряках. Настроение у всех заметно поднялось. Не было большего счастья и большей награды, чем сознание того, что литература тоже сражается, все мы находимся в боевом строю и наш труд нужен для дела победы так же, как точные снайперские выстрелы и бомбовые удары летчиков. Это с предельной ясностью понял каждый литератор и в этом был главный смысл маленького форума…
Надо иметь в виду, что в группе Вишневского собралась лишь небольшая горстка писателей, служивших на Балтике в разных должностях: Николай Чуковский — корреспондентом газеты «Летчик Балтики», Николай Браун в газете «Красный Балтийский флот», ближайший друг Вишневского — Александр Штейн — был корреспондентом «Красного флота» и уже во второй половине войны влился в писательское подразделение Пубалта, Петр Капица редактировал газету Кронштадтского ОВРА, в различных частях и на кораблях служили: Ефим Добин, Леонид Кронфельд, Еремей Лаганский, Анатолий Кучеров, поэтесса Наталья Грудинина была краснофлоткой на береговой базе торпедных катеров.
Мы чтили память погибших наших товарищей: поэта Алексея Лебедева — штурмана подводной лодки, не вернувшегося из боевого похода, и Иоганна Зельцера, в ту пору уже известного драматурга, редактора газеты «Маратовец», в трагический момент оказавшегося в боевой рубке «Марата» и найденного уже после войны, когда затонувшую часть корабля подняли и в кармане одного неопознанного моряка нашли членский билет Союза писателей.
Мы потеряли многих друзей. Оставшиеся в живых продолжали сражаться своим оружием.
Наша коллективная работа была рождена большой дружбой, чувством локтя, тем поистине морским братством, которое проявилось в дни самых тяжелых испытаний воли и духа.
«Я хочу, чтобы группа была спаянной, дружной… За службой никогда не должна пропадать человеческая писательская душа. Революция имеет смысл только, как дело человечности, простоты, ясности и дружбы» —
это строки из дневника Вишневского. Он так писал, так мыслил и делал все возможное, чтобы морское братство не угасало.
В нашей группе царила деловая атмосфера. Дружба не мешала бригадному комиссару Вишневскому строго и требовательно относиться к каждому из нас, а нам — подчиняться воинской субординации, не забывая, что Всеволод Витальевич наш начальник и, стало быть, его поручения, данные в мягкой, дружеской форме, следует считать приказом.
Сегодня, перелистывая «Правду» и читая фронтовые корреспонденции, я вспоминаю, как они рождались.
Нередко наши материалы появлялись в «Правде» за двумя и даже за тремя подписями: Вс. Вишневский, Н. Михайловский, А. Тарасенков. Коллективная работа была продиктована самой жизнью, особенностями обстановки тех дней, когда фронт борьбы с каждым днем ширился и один человек не мог охватить события, происходившие на многих участках битвы. «Горячих» мест слишком много — на флоте, в авиации, на сухопутном фронте. Мы там бывали. Но даже при этом условии трудно было нарисовать общую картину жизни фронтового Ленинграда. И потому, возвращаясь с разных участков фронта, мы нередко собирались у Вишневского, рассказывали, где что видели, выкладывали на стол записи в блокнотах. И тут вырисовывалась тема очередной нашей коллективной корреспонденции. Она детально обсуждалась, а затем кто-то из нас — я или Тарасенков — делал первоначальный набросок. После рукопись передавалась Всеволоду Витальевичу: он читал, что-то выбрасывал, добавлял какие-то факты и ювелирно обрабатывал все от первой до последней строки…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Штормовая пора"
Книги похожие на "Штормовая пора" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Михайловский - Штормовая пора"
Отзывы читателей о книге "Штормовая пора", комментарии и мнения людей о произведении.