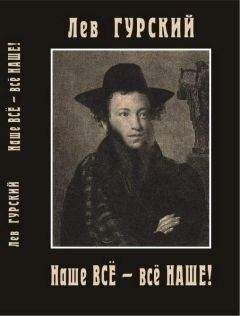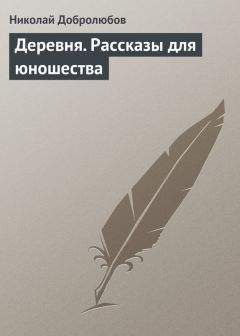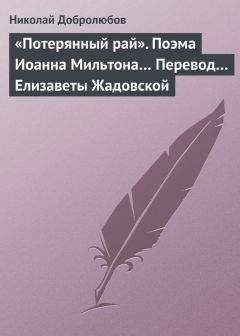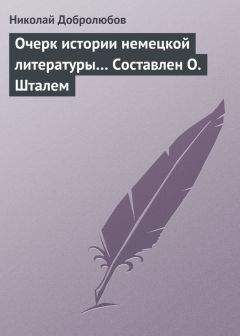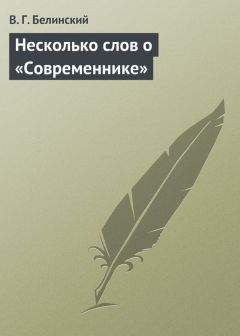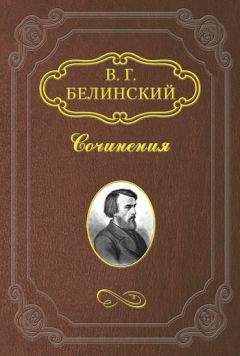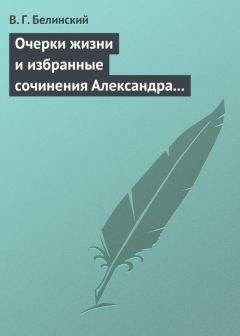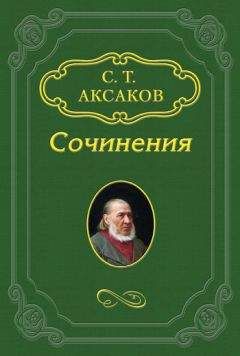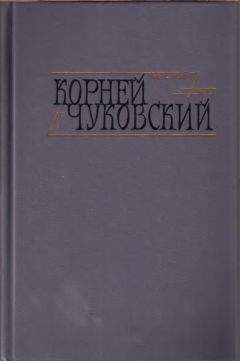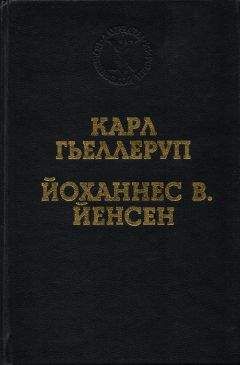Яков Цукерник - Три комиссара детской литературы
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Три комиссара детской литературы"
Описание и краткое содержание "Три комиссара детской литературы" читать бесплатно онлайн.
Нет перегиба в этом утверждении. Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Некрасов, Белинский и Чернышевский, Толстой и Горький — все они были не только великими россиянами, но и великими землянами. Даже в книгах Гоголя пятна шовинизма вторичны, посторонни, как засохшая грязь. Даже воспевая кровавые подвиги Тараса Бульбы в борьбе с поляками или турками, находит он слова уважения в адрес польских витязей или скорби о погибавших под ударами запорожцев мирных поляках или турках-анатолийцах. Нет, воистину великими землянами были они все, и классиками общепланетной литературы, которая им многим обязана.
Началась русская литература (будем уж называть её так, помня всё же приведённую выше оговорку) с Пушкина. Были писатели и до него, начиная с того же Кантемира, но это был «утробный период», ибо не было ещё в наличии русского литературного языка. В муках создавали его Тредьяковский и Сумароков, Ломоносов и Державин, Фонвизин и архаисты, многое было ими сделано, но русского языка всё ещё не было. Была простонародная речь, ещё протопопом Аввакумом на бумаге зафиксированная, рядом писателей воспроизведённая (тем же Фонвизиным в «Недоросле»), были жаргоны церковный и мелкодворянский, ряд мужицких говоров и так далее, но единого и всем доступного и понятного языка не было. В том же «Недоросле» речи Стародума и Правдина не одним своим благонамеренным содержанием тягомотны и нестерпимо скучны, но и невольной искусственностью построения фраз, подбором слов и выражений, присущим скорее иностранцам, чем русским. А что было этим собеседникам делать? Ведь и радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву» при всей его идейной к нам близости кажется безнадёжно архаическим и труднопереваримым по языку. Понять ту или иную оду понятнейшего из поэтов своего времени Ломоносова — не то что его драмы — невозможно без крайнего напряжения мыслей, без почти детективного распутывания фраз — хоть переводи его на русский язык заново, подобно «Слову о полку Игореве». Пушкина же мы понимаем совершенно свободно, в его произведениях загадочен не язык, а то, что этим кристальным языком иной раз пишется — тут нужна помощь не переводчиков, а историков-комментаторов.
Но мало писать понятно и живо — нужно ещё знать, о чём и с какой точки зрения писать. Нужно, чтобы писателя одушевляли идеи, достойные запечатления. И тут русской литературе невероятно повезло: ни создатель итальянского языка Данте, ни тем более немецкого — Лютер — не идут в сравнение с этой точки зрения с создателем языка русского. Пушкин был поистине КОМИССАРОМ русской общественной мысли, он был не только гением-писателем, но и с начала и до конца своего — несгибаемым революционером, даже после разгрома декабристов гордившимся тем, что он «гимны прежние поёт», и не клонившим головы до последнего вздоха. Упрёки в его адрес в оппортунизме, в применении к обстоятельствам, могли быть позволены лишь людям победившей революции, вроде Луначарского, но Пушкину-то приходилось вести дальнейшую борьбу фактически в одиночку, переоценивая всё происшедшее, ища причины поражения, ища иные поля боя, где он мог бы не лгать, не льстить, но продолжать свою борьбу в полную силу, одерживая при этом пусть частные, но победы. Сама смерть его вызвала небывалое в николаевской России общественное потрясение и заставила правительство заметаться в поисках революционного общества, предположительно возглавлявшегося погибшим поэтом. Не было такого общества, но всё мыслящее общество России подвергалось революционизирующему влиянию его поэзии и его мысли, отнюдь не прекратившемуся с его смертью. Ведь осталось написанное и сказанное им, его посев пророс «гоголевской натуральной школой», стихами Лермонтова и Некрасова, критикой Белинского, Чернышевского и Добролюбова, сатирой Салтыкова-Щедрина… Все они начинали как будто сами по себе, тот же Белинский не раз его критиковал, но не будь Пушкина — о чём бы Белинскому писать? Без пушкинских стихов, поэм, драм, прозы, критических статей, исторических взглядов, примера жизни и смерти — как и что писали бы его преемники и их преемники? Нет, огромно значение того, что именно Пушкин, а не Тютчев и не Фет оказался создателем и КОМИССАРОМ русского языка и русской литературы. Возможно, в ином случае наша революция произошла бы на несколько десятилетий позже, что могло бы самым роковым образом сказаться на судьбе всего человечества, учитывая развитие науки и соответственный рост смертоубойной её отрасли…
Если и были на планете вообще и в России в частности детские книги и детские писатели до написания Корнеем Чуковским «Крокодила», то детская литература всё же только с «Крокодила» начинается по той же причине — по причине отсутствия у писателей понимания того, чем отличается эмоциональный мир ребёнка от мира взрослого, по каким законам развивается детское мышление, понимание ребёнком окружающего мира, постижение им языковых глубин. А значит — и самого главного: каким языком надо с детьми разговаривать.
Чуковский понял это — как учёный. И его наблюдения, и выводы из них, сведённые в книгу «От двух до пяти», относятся к эпохальным открытиям. Такие гиганты, как Горький и Маяковский, силой гения своего дошедшие до создания живущих по сей день произведений для детей, были всё же более практиками в данной области, чем теоретиками. Они теоретизировали о том, что нужно дать детям, но в общем-то миновали вопрос — как это детям подать, каким языком писать, на какие особенности построения фразы обращать внимание и так далее. Этот кардинальнейший вопрос был решён именно Чуковским. Но всё же основная сфера его интересов была во взрослой литературе — он был виднейшим критиком, историком литературы, и его собрание сочинений менее чем на шестую часть касается литературы детской. Он её родил, время от времени навещал, так сказать — платил алименты, делая это с удовольствием, но подлинным командиром и начальником штаба, подлинным организатором армии советских детских писателей стал Самуил Яковлевич Маршак… И хотя де-факто советскую литературу возглавляли Горький и Маяковский и держали при этом в поле зрения и детскую литературу, — для них это было всё же лишь частью целого, а для Маршака — главным делом жизни на протяжении ряда лет.
И всё же Маршак был именно руководителем и организатором, чей авторитет добровольно признавали товарищи, но не КОМИССАРОМ детской литературы. Видимо, поначалу и не было необходимости в комиссаре — им было в какой-то мере само время, отсеивавшее зерно от плевел. Сперва должна была возникнуть, охватить ряд жанров, осознать себя как таковую детская литература, а уж потом в ней мог появиться комиссар.
Эту важнейшую функцию, отнюдь к тому не стремясь, взял на себя Аркадий Гайдар. И основные, поистине КОМИССАРСКИЕ произведения его появились тогда, когда в них возникла особая необходимость, когда тяжело захромала советская власть, которой перебил ноги наш «термидор», начавшийся после гибели Кирова в декабре 1934 года, а в полную силу размахавшийся с мая 1937 года, отчего и принято его называть просто «тридцать седьмым годом», хотя длился он по 1939 год включительно и отзвуки его не стихали до начала войны.
Аркадий Гайдар — первый комиссар детской литературы
Если Маршаку принадлежит изречение, что детская литература должна быть как взрослая, только лучше, то от Гайдара останется в веках утверждение, что целью детской литературы является подготовка крепкой краснозвёздной гвардии.
И именно этот ушедший в революцию мальчишка, которому выпала редчайшая удача — в полную меру принять участие в величайшем и справедливейшем в истории деле… именно этот недавний 16-летний командир полка… именно этот полжизни проведший в лечебницах собрат Николая Островского… именно этот хлебнувший в жизни сверх меры и сладкого, и горького человек.
Не только сформулировал эту задачу (спасибо бы и на том!), но и решил её. Решил потому, что на своей шкуре испытал, что хорошо и что плохо в нашей стране, с чем хорошим и с чем плохим столкнутся его будущие читатели и чему, следовательно, следует их учить, к чему готовить, чтобы выросли бойцами, надёжной сменой — сменой ему лично, не кому-нибудь! Он делал историю своей страны, а не писал о делателях; он был кровно заинтересован в том, чтобы эта история имела счастливый конец. И он помнил, кем он был в революции — мальчишкой он был, недавним ребёнком. И сумел сохранить память об этом — немногим это дано…
О Гайдаре до поры до времени массовый читатель знал по рассказам Бориса Емельянова и Константина Паустовского, как о «милом рыцаре, добродушном богатыре, любившем почудить, всеми поголовно любимом и всех же любившем». Лишь после выхода в свет в серии ЖЗЛ книги Бориса Камова «Гайдар» в 1971 году мы узнали, что он был настолько изранен на Гражданской войне, что на всю жизнь получил тяжелейшее поражение нервной системы и то и дело оказывался в психиатрических лечебницах… что из-за этой же болезни с ним не смогли жить две жены, хотя обе были достойными его чудесными женщинами… что из-за той же болезни он не смог завершить ряд своих произведений, потому что в мозгу возникал какой-то барьер и не было сил написать ещё хоть фразу, хоть строчку… что в бытность любимым фельетонистом пермских читателей он был оклеветан одним из «героев» своих фельетонов и получил подлый удар в спину от редактора своей газеты, так что потребовалось вмешательство «Правды» для восстановления справедливости, но болезнь его получила дальнейшее развитие во-первых, а во-вторых дружная и боевая редакция той газеты была к тому времени упомянутым редактором разогнана и дело советской власти в тот момент и в том месте потерпело безусловное поражение… что первая его книга была без его ведома искалечена тогдашними хозяевами литературы и что и впредь за него меняли названия, резали и кромсали его произведения… что было время, когда исчезли вдруг с библиотечных полок его книги, а редакторы стали запираться от него в кабинетах, а когда он гривенником открыл такой кабинет и потребовал от редактора объяснений, то всё равно редактор с ним говорить не стал… что было и немало других невесёлых фактов в этой замечательной жизни, в том числе и связанных с вершиной его творчества — трилогией о Тимуре.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Три комиссара детской литературы"
Книги похожие на "Три комиссара детской литературы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Яков Цукерник - Три комиссара детской литературы"
Отзывы читателей о книге "Три комиссара детской литературы", комментарии и мнения людей о произведении.