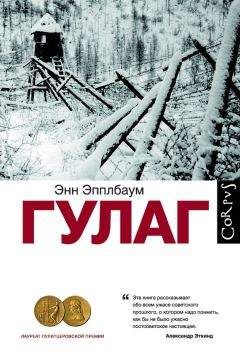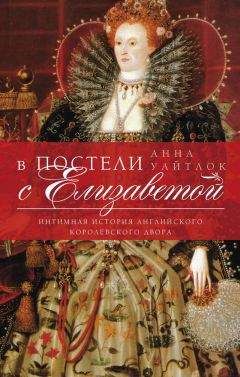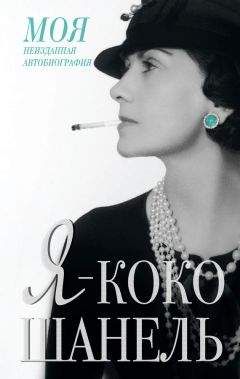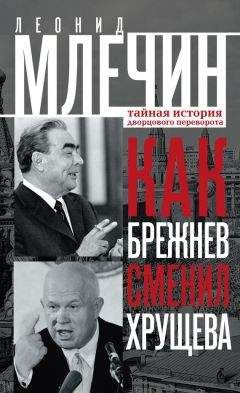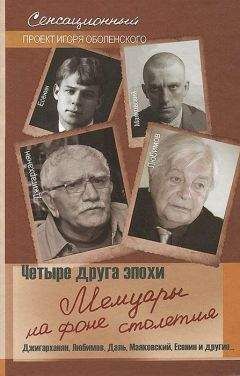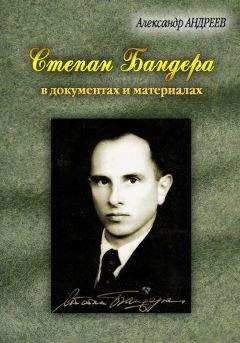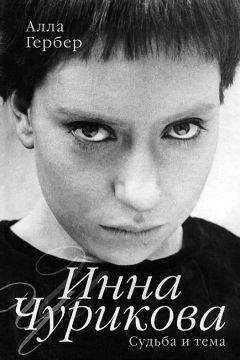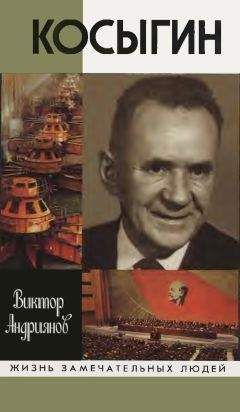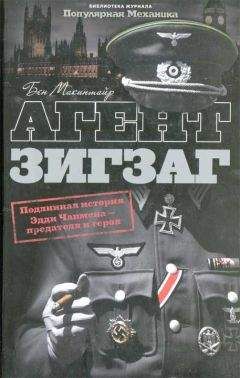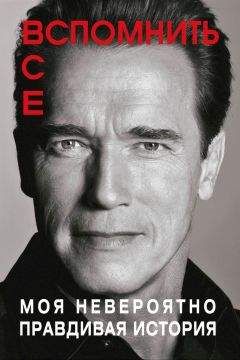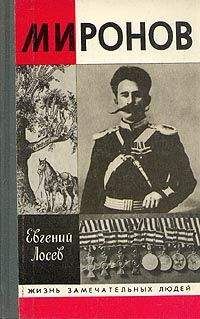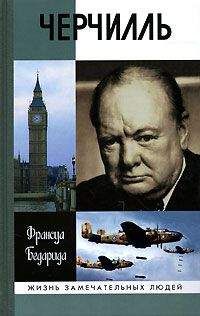Алексей Симонов - Парень с Сивцева Вражка
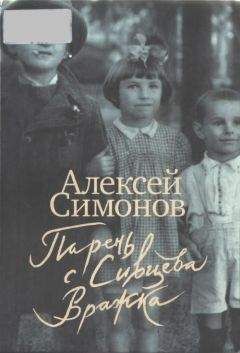
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Парень с Сивцева Вражка"
Описание и краткое содержание "Парень с Сивцева Вражка" читать бесплатно онлайн.
Это история семьи на фоне XX века, изложенная в воспоминаниях, размышлениях, письмах, архивных документах, трудовых книжках и справках о реабилитации.
Если в первой части «Отдаю долги» рассказывается о том, как формируются в семье принципы общения с внешним миром, то во второй — «Круги по воде» — автор описывает, как эти принципы действуют в житейской практике.
Пунктиром через все перипетии этой истории проходит судьба Симоновых — деда, отца, внука, рассказывается о том, почему они — Симоновы и как главный из них стал Константином вместо Кирилла.
Мать посылала меня сопровождать дядьку — так в нашем семейном обиходе звался Луговской — когда он, а бывало это с ним нередко, приходил в гости и принимал лишнего. С беспомощной свирепостью, опираясь на мое плечо, он одолевал подъем к сортиру, предусмотрительно превратив это в игру: — Ну, Алексей, пошли на штурм, — говорил дядька, и я пер его в эту гору, ощущая себя деятельным и полезным членом общества. Помнится, на спуске, отказавшись от моей поддержки, он как-то раз ссыпался к нашей двери.
Был ли у них с мамой роман? Скорее всего, был, хотя доподлинно я этого не знаю, мать в отношении своих личных дел была и в старости неболтлива. Дядькина вдова — Майя тоже считала, что был, но затруднялась определить, когда. А я, глядя назад с взрослых мужских вершин, должен сказать, что у Луговского должен был быть роман со всякой женщиной, на которую он обращал внимание, потому что самым красивым из всех, кого я видел и слышал, был именно Луговской. Сочетание мощи и нежности, которую в нем я и тогда ощущал, было такое, что ни одна женщина, как мне кажется, устоять перед ним не могла. Я ведь не случайно говорю «слышал» — в каждом стихе Луговского я и по сей час выделяю его могучие бархатные модуляции, иногда неожиданно высокие, но исполненные звуком, как волна наполнена грозной, мощной силой воды. Все сонорные, взрывные, резонирующие, эхообразующие были его: «слагая стихи по следам Улагая, по-чешски чешет, по-польски плачет, казачьим свистом по степи скачет» — все это летело, скакало, свистело и в обычной, прозаически приглушенной его речи.
Словом, если попытаться определить чем для нашего дома много лет был Луговской, я бы рискнул сказать, что он был как старинный замок на холме, видимый воочию из окна московской городской квартиры. Абсолютно нереально и столь же, до невозможности вещественно.
Дядька Луговской, каким я его помню, 1955 г.
Когда-то в материнском архиве я обнаружил два письма к ней Луговского и два письма ему. Чтобы не повторять эту историю, приведу ее такой, как записал в 92-м, вскоре после смерти мамы.
Первое письменное подтверждение дружбы с Луговским, обнаруженное в архиве, тоже относится к войне. Вот оно — лежит в маленьком самодельном конверте с печатью военной цензуры. И если б там были не два письма вместе, которые я сейчас приведу, то каждое в отдельности я наверняка счел бы за любовное.
Письмо матери от 28.08.1943 из Москвы в Ташкент (видимо, отправлено сразу после возвращения семьи из эвакуации, во время одной из командировок в Москву из Челябинска, где мать тогда служила в Наркомтяжпроме):
«Мой милый, хороший, большой старый кот! Желание написать тебе преследует меня вот уже два года. Когда я уезжала из Москвы, я взяла с собой только одну фотографию: твоя голова на фоне горы. Любопытным знакомым я объяснила, что куда бы я ни попала, пусть будет только стенка, на которую можно повесить это фото, и все вокруг станет красивым. А когда красиво, тогда все легче. Снова я в Москве, и уже на московской стенке твоя фотография, только другая. Ты стоишь, прислонившись к дому, сложив руки.
Ой, как хочется тебя видеть! Володенька, ни одного человека мне не хочется видеть так, как тебя. Я бы усадила тебя на диван, обложила подушками и душу бы всю тебе выложила. На бумагу ведь ничего не выложишь. Важно не то, что все сможешь рассказать, а важно твое лицо видеть в то время, как рассказывать буду. Ты обязательно должен приехать. Если люди так бывают нужны — они всегда приезжают. А тут не просто люди: это же твои друзья, друзьям нельзя ни в чем отказывать. Не знаю, какие соображения держат тебя в Ташкенте, но как бы ни было там хорошо, ведь в Москве лучше. Приезжай, Володя, в Москве — слово-то какое — другого такого не придумаешь.
Может быть, тебе для переезда сюда что-нибудь нужно здесь сделать — ты напиши. Напиши вообще, как только получишь это письмо. Или телеграмму отправь, что, мол, ждите, приеду, люблю, целую, а мы в ответ: ждем, приезжай, любим, целуем. Ну смотри, обязательно приезжай, очень люблю и очень целую,
Женя Ласкина».
Из второго письма, чтоб не повторяться — только отрывок. Написано оно средней из сестер Ласкиных — Сонечкой:
«…Я боюсь, что вся эта страничка так наполнится чувствами, что никакой почтовый вагон не довезет ее к Вам, но, рискуя всем на свете, продолжаю повторять — милый, хороший дядя Володя, мохнатобровый, седой, даже, может быть, немножко крашеный, приезжайте в Москву, к нам. Что хотите — все будет, даже можем выйти за Вас замуж и создать семейный очаг, уют, комфорт, свой огород и литерное питание (что еще можно требовать?). Хочу, чтоб рассказали мне про серого зайца (помните… Ну-у?..), чтобы взобраться с ногами на диван, тянуть хоть какое-нибудь вино и говорить, говорить, и чтобы ночь напролет, и чтобы гениальный Ваш бред, и чтобы „тегуан-тепек“…»[17]
Что они обе, сбрендили, что ли? Два года человеку не писали, и тут — на тебе. И ни слова про себя и ни слова про войну… Отгадка лежит в совсем другом месте. В повести отца «Двадцать дней без войны», написанной много лет спустя — под именем Вячеслава изображен ташкентский Луговской — трагический и беспомощный, бессильный преодолеть ужас первых дней войны и первой разбомбленной поездки на фронт — таким отец его увидел в войну. И узнавшие о его бедах сестрички Ласкины, только что появившиеся в Москве из эвакуации, живущие в маленькой квартире ввосьмером, — выдают старому другу скорую помощь, выдают как понимают, как умеют: любовью, памятью, готовностью подставить плечо под чужую беду.
Это свойство матери — не колеблясь брать на себя чужую боль, вплоть до потери страха, чувства самосохранения,— оно бестрепетно до неловкости.
Как мужчина подтверждаю: если женщина так тебя понимает, невольно подумаешь, что у вас роман.
Каким образом в архиве оказались их письма дядьке — сказать затрудняюсь, но, скорее всего, их обнаружила и передала маме Майя. Не знаю, в дружбе Елены Леонидовны Быковой, она же Майя Луговская, с моей мамой было что-то от строчки Маяковского «любящие Маяковского — да это ж династия». Быть нежно любимым такими фантастически разными женщинами, свести их, подружить и не стать после смерти артиллерийским полигоном для испытания этой дружбы на разрыв — это, согласитесь, высокий класс и для мужчины, и тем более для поэта. Мне доводилось видеть как дружат между собой нынешние и бывшие жены поэтов. Но вдова у поэта всегда одна и обычно жестко охраняет эту свою печальную единственность.
Так вот мама у Майи была настолько вне подозрений, что если б Майе тогда вдруг пришло бы в голову писать завещание — вдовой Луговского она с удовольствием назначила бы мать.
Помимо всего прочего, незадолго до смерти Луговской, буквально как бульдозер-тяжеловес, проторил для мамы дорожку назад, в литературную жизнь. Уволенная из Радиокомитета по пятому пункту в 1950-м, мать шесть лет перебивалась более или менее случайными литературными заработками. И вот, когда в 56-м возник журнал «Москва», свое членство в редколлегии Луговской обусловил одним: взять мать заведовать отделом поэзии. И ее взяли, и этот протекционизм явно пошел на благо поэзии: до самого 68-го, когда с приходом в журнал главного редактора Михаила Алексеева матери сперва скрутили руки, а потом и шею.
Отношение матери к Луговскому было как к заповедному принцу из полузабытой сказки: трепетно восторженное, и не менялось никогда. А вот отношение к нему отца менялось и кардинально, и драматически, а, главное — никогда, кроме, наверное, недоступной моей памяти юности родителей, не было однозначным. Но об этом он сам написал и в воспоминаниях, и в «20 днях без войны».
В юности отец был в Луговского влюблен, что меня не удивляет; есть много воспоминаний соучеников отца по Литинституту: Алигер, Долматовского, Матусовского, об этом свидетельствующих. Он для них был похож на свои стихи, он был старше их поколением, хотя совсем не намного — возрастом. Зато эти годы впитали в себя ветер Гражданской, пыльные бури войны с басмачами, подкреплялись безмерным обаянием учителя и большой коллекцией холодного оружия в его квартире в Лаврушенском переулке, аккурат наискосок от Третьяковской галереи. В довоенных, но войне посвященных стихах отца звучат интонации Луговского.
Святая ярость наступленья,
Боев жестокая страда,
Завяжут наше поколенье
В железный узел. Навсегда.
В. А. Луговской и тот же Симонов, но уже Костя, 1939 г.
Так они думали. Так писали. И после этого, в сорок первом, вдруг узнать, что сорокалетний Луговской не на фронте, где его ровесники Сурков, Славин и другие, а в Ташкенте, в глубоком тылу. Это было не просто разочарование. Если б не ежедневная война, это могло быть и должно было быть воспринято как жизненная катастрофа. Но воспринималось как частная драма, о причинах которой каждый судил по мере своей былой увлеченности, по глубине своего нынешнего разочарования и по возможностям отпущенного на эти переживания времени. У отца ведь уже и после войны писано: «И все же разделим порой друзей на залегших в Ташкенте и в снежных полях под Москвой». И это, безусловно, и о Луговском. Трудно было поверить, что написанные в июне 41-го стихи «Из дневника»: «Да, война не такая, какой мы писали ее,— / Это горькая штука», могут быть не просто констатацией факта истории, а переменой жизненных ориентиров, не только твоей драмой, но и чьей-то необоримой трагедией. Понять это было в войну трудно, принять невозможно. И долго потом он не мог, не принимал эту «измену» Луговского: сначала — юности, потом — ученикам, потом — самому себе. В 1961 году написал замечательные воспоминания о Луговском-учителе. И ни слова в них о Великой Отечественной. Ни единого слова.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Парень с Сивцева Вражка"
Книги похожие на "Парень с Сивцева Вражка" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Алексей Симонов - Парень с Сивцева Вражка"
Отзывы читателей о книге "Парень с Сивцева Вражка", комментарии и мнения людей о произведении.