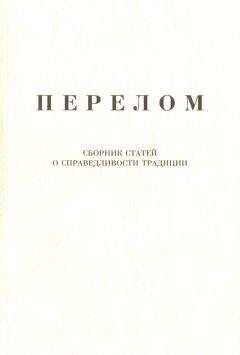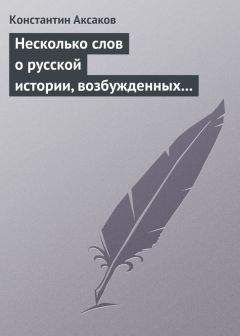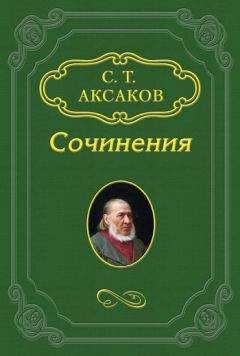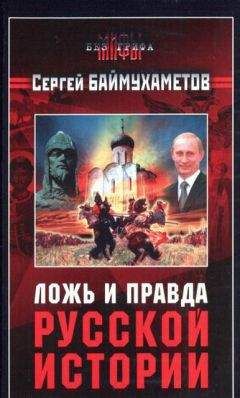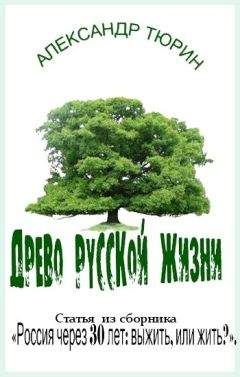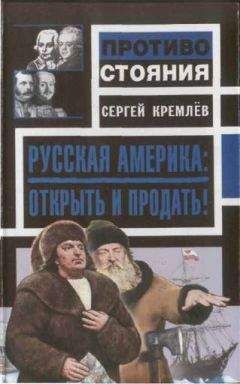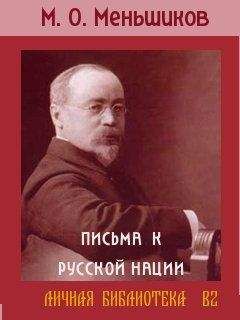Сергей Аскольдов - Манифесты русского идеализма
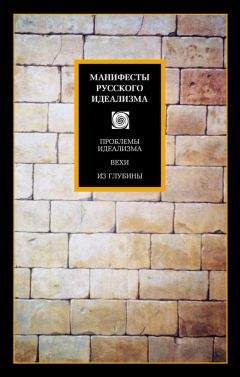
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Манифесты русского идеализма"
Описание и краткое содержание "Манифесты русского идеализма" читать бесплатно онлайн.
Настоящий том включает в себя три легендарных сборника, написанных в разные годы крупнейшими русскими философами и мыслителями XX века: «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918).
Несмотря на столетие, отделяющее нас от времени написания и издания этих сборников, они ничуть не утратили своей актуальной значимости, и сегодня по-прежнему читаются с неослабевающим и напряженным вниманием.
Под одной обложкой все три сборника печатаются впервые.
Издание адресовано всем, кто интересуется историей русской мысли, проблемами русской интеллигенции, истоками и историческим смыслом русской революции.
Примечание верстальщика: ссылка на комментарии к разделу даётся в начале каждого раздела.
Безграничное увлечение идеей всеобъемлющей и все разрешающей положительной науки охватило русское мыслящее общество в конце 50-х и начале 60-х гг., и оно жадно усвоило себе выработанные на Западе учения позитивизма и материализма. Это усвоение сослужило огромную службу делу русской культуры, знаменуя собой, подобно западному просвещению XVIII века, освобождение ума от подчинения омертвевшей и мертвившей метафизической догме и от прямого безмыслия. Но, освобождая от одних пут, позитивизм и материализм налагали другие. Некритический позитивизм и материализм оба суть одинаково догматические построения, обещающие гораздо больше, чем они могут исполнить. Они, всецело руководясь категорией причинности как высшим принципом объяснения, к ней сводят долженствование и свободу, т. е. упраздняют, — и с своей точки зрения вполне последовательно, — эти основные понятия нравственности как понятия самостоятельные. Позитивизм становится догматичным, поскольку в его лице положительная наука, руководящаяся принципом причинности, предъявляет притязания на то, чтобы своими определениями исчерпать всю полноту жизни духа и дать стройное и целостное миросозерцание. С точки зрения причинности это невозможно, и недаром Конт своей субъективной фазой разорвал им же самим скованное железное кольцо позитивизма и вступил в область подлинной метафизики с религиозным характером. «Вырабатывая на основании своего “субъективного метода” систему положительной философии, — говорит Вл. Соловьев [25], — Конт считал ее окончательным, высшим выражением духовного развития человечества; но по окончании работы он сознал ее недостаточность и почувствовал, что это умственное построение не дает даже права своему основателю считаться истинным философом, так как оно представляет только одну сторону действительного человека и доступной ему истины. Эту вновь открывшуюся ему сторону бытия Конт признал даже более важною, первенствующею. Во всяком случае, позитивная религия и политика не были прямым следствием или приложением позитивной философии, а совершенно новым построением, на новом основании (“субъективный метод”) и с другой задачею (нравственно-практическою). Некоторым переходом и связью оказывается здесь идея человечества: позитивная философия приводит к этой идее, а религия и политика из нее исходят. Но сама эта идея, в том смысле, в каком она является в последнем томе “Cours de la philosophie positive”, уже не соответствует объективному методу и вместо положительно-научного несомненно имеет метафизический характер. То единое человечество, о котором говорит здесь Конт, не существует как факт внешнего опыта и не может быть сведено к такому факту; понятие о таком человечестве не могло быть добыто наукой, как ее разумеет Конт, и так как он не заявлял притязаний на божественное откровение, то остается признать его идею как чисто умозрительную, или метафизическую. Таким образом в своем собственном умственном развитии Конт подчинился законам трех стадий, но только в обратном порядке: он начал с позитивно-научного воззрения и чрез посредство метафизического принципа человечества пришел к религиозной и прямо теологической стадии…»{10}
Г. Михайловский, воспринимая субъективный метод Конта [26], тоже разрывал рамки позитивизма. В предъявленном им требовании системы правды, сочетающей правду-истину с правдой-справедливостью, он формулировал недоступную положительной науке философскую проблему целостного воззрения, объединяющего сущее и должное в одном построении. Эта проблема по существу своему принадлежит метафизике. Ошибка г. Михайловского, осудившая его на почти полное философское бесплодие, состояла в том, что он метафизическую проблему выражал в понятиях положительной науки и думал разрешить ее средствами. Социология, хотя и «субъективная», конечно, не могла дать ответа на грандиозный, предъявленный к ней метафизический запрос. В лице философствовавшего г. Михайловского оказались два существа, не опознавшие себя, не размежевавшиеся между собой, а потому друг другу только мешавшие. Положительная наука у него бессознательно извращалась метафизикой, а метафизическую мысль тяготило, связывало и обеспложивало ее подчинение «положительной науке».
Как бы то ни было, г. Михайловский в истории русской философской мысли займет место рядом с П. Л. Лавровым, как блестящий выразитель первой смутной, почти бессознательной реакции почти неустранимой «метафизической потребности» против позитивизма и притом — реакции, вышедшей из недр самого же позитивизма. Только что сделанная характеристика философствования г. Михайловского проливает свет на философский смысл и значение полемики марксизма «против субъективной социологии». Эта полемика, рассматриваемая со стороны своего философского содержания, была вполне естественной, уместной и весьма современной реакцией положительно-научной мысли против незаконного вторжения в ее сферу метафизически-этических проблем, являвшихся под флагом субъективной социологии. Обороняясь от этой реакции, г. Михайловский и его последователи крайне обесцветили свою точку зрения и в результате, как нами было указано выше, субъективный метод как бы выветрился до самоупразднения. Его ценное метафизическое зерно при этом не могло не потеряться. Характерно, с другой стороны, что один из самых видных русских позитивистов, П. Н. Милюков, в споре марксистов с субъективистами, с самого начала принципиально-философски стал на сторону марксизма, конечно, потому, что ясно видел в марксизме реакцию позитивно-научного духа против вторгшегося в науку инородного «этического» элемента. Но как бы ни была законна эта реакция, она и в форме метафизической (Н. Бельтов: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»), и в форме позитивно-критической (Струве: «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России») зашла слишком далеко. Говоря это, мы имеем в виду не преувеличения и односторонности так называемого экономического материализма, которые не имеют принципиального философского значения и с которыми предстоит разделываться положительной науке и специальной методологии. Дело в другом. И в своей позитивно-критической формулировке первоначальный русский марксизм как философское построение впал в основное указанное нами выше заблуждение позитивизма, установив подчинение долженствования, как такового, бытию и поглощение свободы необходимостью, т. е. он оказался воззрением некритическим и догматическим. Струве впал в догматизм, приспособляя воззрения Риля и Зиммеля к обоснованию «экономического материализма». Самое это приспособление было задумано правильно. Но критический реализм Риля и социальный психологизм Зиммеля были неправильно истолкованы в смысле принципиально-философского подчинения долженствования бытию. У Струве недоставало в то время той принципиальной философской ясности, которая не допускает такого подчинения. Бельтов же, в своем двойном качестве материалиста и гегелианца с суверенным презрением относящийся к теории познания и третирующий ее как схоластику, был и остается чуждым вообще всякого критического раздумья. Поэтому он не мог ни отнестись критически к основному заблуждению позитивизма, ни даже поставить проблему в ее чистом виде.
Теперь положение вещей изменилось. В самом «марксизме» началась критическая работа, некоторые результаты которой можно уже обозреть. Идея г. Михайловского о должном как категории, независимой от сущего в опыте и потому имеющей самобытную ценность, признана теми писателями-марксистами, которые от критического позитивизма пришли или перешли к метафизике. Но ими же подчеркнуто, что постановка этого вопроса в рамках положительной науки и в ее терминах незаконна и не имеет смысла, что она есть некритическое смешение метафизики с опытным знанием, или положительной наукой. Таким образом, неверно, что у таких метафизиков-идеалистов, как Струве, нет ничего общего в философском направлении их мысли с г. Михайловским, но еще менее верно, что это вышедшее из марксизма течение капитулировало перед «субъективной социологией». Интересно выяснить и установить, конечно, не то, кто кого побил (пусть такими вопросами занимаются фанатические «ученики» Маркса и г. Михайловского или газетные фельетонисты), а то, как шла и к чему пришла — в лице ее различных представителей — русская философская мысль, как расходились и сходились ряды ее развития. Вглядываясь в выяснившийся теперь облик новейшего метафизического идеализма, мы видим в нем попытку поставить в чистом метафизическом виде мнимо упрощенную и разрешенную, а в сущности насильно упраздненную позитивизмом проблему соотношения между сущим и должным, между историческою действительностью и вечным идеалом. Новое направление почти не пошло дальше критических пролегомен (книга Бердяева — Струве) и дало лишь несколько намеков на положительные построения. Перед ним открывается широкая область метафизического творчества. Но тут оно находит перед собой не пустое место. Движение русской философской мысли с 1870 г. не исчерпывалось позитивизмом, и не позитивизму в нем принадлежит первое место. Пока русский позитивизм искал решений то в объективном Конте, то в Конте субъективном, черпал новые вдохновения, то в Канте и неокантианстве, то в социальном материализме Маркса, то примирял учение Маркса с Кантом, Рилем, Зиммелем, Авенариусом и даже г. Михайловским, то противопоставлял его всем другим построениям, как едино-спасающее, русская метафизика создала блестящую, оригинальную по обоснованию и формулировке старых религиозных, метафизических и моральных идей онтологию и этику Владимира Соловьева, стройную систему Чичерина, богатый возможными выводами панпсихизм Козлова и его учеников, «конкретный идеализм» кн. С. Н. Трубецкого. Во все эти построения необходимо вникнуть, со всем этим обязательно считаться новым людям метафизической потребности, ушедшим и даже еще только уходящим от позитивизма. Русская метафизика в лице Владимира Соловьева исполнила и крупное общественное дело, дав впервые идеалистическую критику славянофильства и катковизма и тем установив, что философский идеализм и государственный позитивизм непримиримы по духу. Это — огромная заслуга, часто восхваляемая, но недостаточно еще оцененная по своему философскому смыслу.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Манифесты русского идеализма"
Книги похожие на "Манифесты русского идеализма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Аскольдов - Манифесты русского идеализма"
Отзывы читателей о книге "Манифесты русского идеализма", комментарии и мнения людей о произведении.