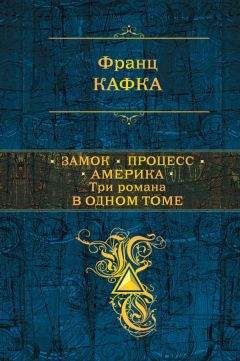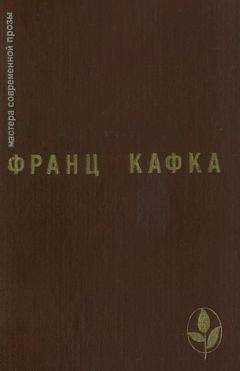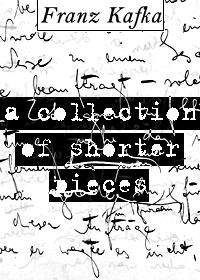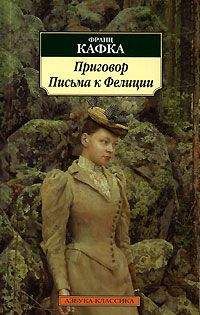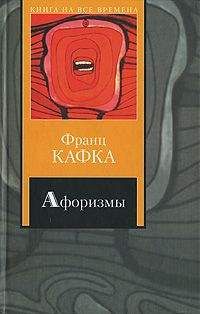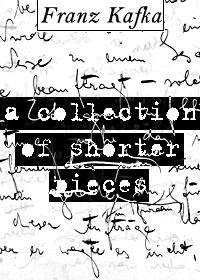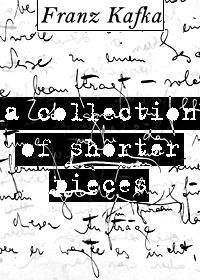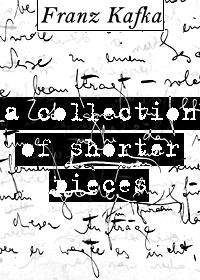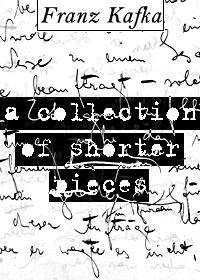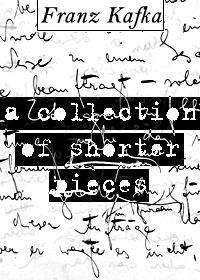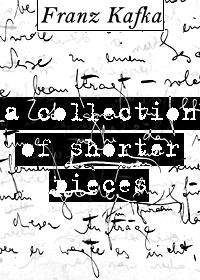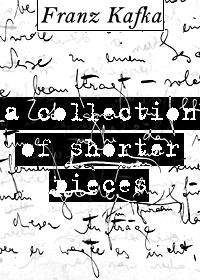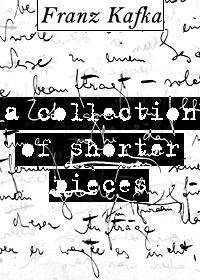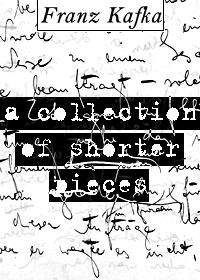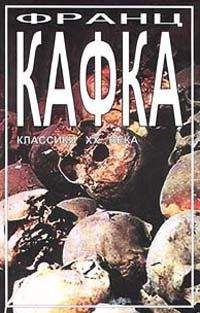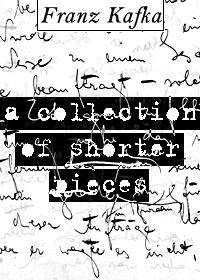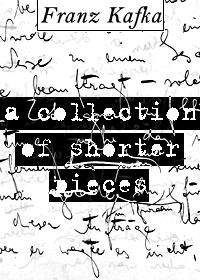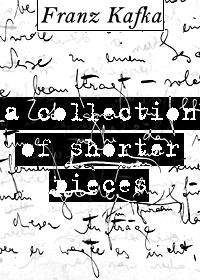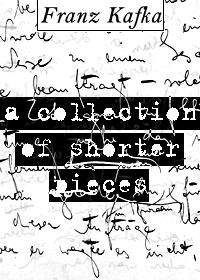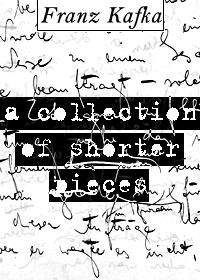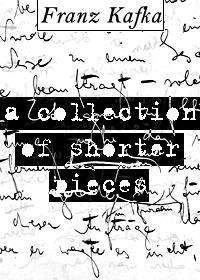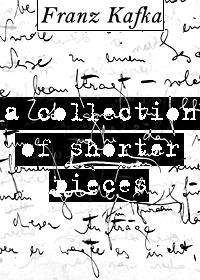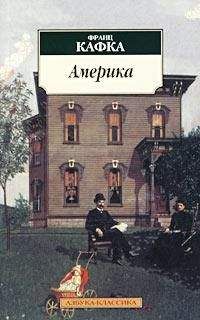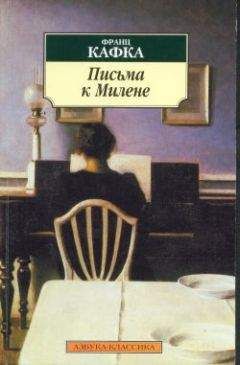Франц Кафка - Процесс

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Процесс"
Описание и краткое содержание "Процесс" читать бесплатно онлайн.
В третий том собрания сочинений Франца Кафки (1883–1924) вошел его роман «Процесс». В качестве приложения к тому публикуются впервые переведенные на русский язык черновые редакции романа и статья Т. Адорио «Заметки о Кафке».
О Кафке более, чем о ком-либо другом, можно было бы сказать, что не столько verum,[33] сколько falsum[34] есть index sui.[35] Однако в дело распространения ложных мнений некоторый вклад внес и он сам. Философемы обоих его больших романов, «Замка» и «Процесса», кажутся «прямо на лбу написанными» — и при всем своем идейном весе отнюдь не уличают в лжесвидетельстве заглавие труда, являющегося неким теоретическим конволютом[36] Кафки: «Рассуждения о грехе, страдании, надежде и пути истинном». Но все же для художественного произведения такое содержание не канонично. Художник не обязан понимать собственное творение, и есть особые причины сомневаться в том, что Кафка был на это способен. Во всяком случае, его афоризмы едва ли поднимаются до уровня таких загадочных историй и эпизодов, как «Забота отца семейства» или «Всадник на ведре». Творчество Кафки уберегло себя от убийственного для художника заблуждения: считать, что философия, закачанная автором в произведение, составляет его метафизическое содержание. Будь это так, вещь была бы мертворожденной: она исчерпывалась бы тем, что ею сказано, и не развертывалась бы во времени. Вот что могло бы стать первым правилом защиты от короткого замыкания на чересчур скороспелое, самой вещью уже заданное истолкование: все принимать буквально, ничего не прикрывать накладными понятиями. Авторитет Кафки — это авторитет его текстов. Тут уж если что и поможет, то лишь верность букве, а не предвзятое понимание. В художественном произведении, которое беспрерывно себя затемняет и дезавуирует, все определенные высказывания уравновешивают генеральное условие неопределенности. Кафка пытается саботировать выполнение этого правила, допуская в одном месте романа заявление о том, что все, сообщаемое из Замка, не следует понимать «дословно». Тем не менее, если мы не хотим утратить всякую почву под ногами, мы должны придерживаться того, что, как сказано в начале «Процесса», кто-то, по-видимому, написал на Йозефа К. донос, «поскольку однажды утром он был арестован, хотя ничего противозаконного не совершил». Точно так же невозможно оставить без внимания то, что в начале «Замка» К. спрашивает: «В какой это замок я попал?[37] Здесь что, есть какой-то замок?» — то есть никак не может быть приглашенным. Ничего не известно ему и об этом графе Вест-весте,[38] имя которого возникает лишь однажды и упоминания о котором становятся все реже, а затем и вообще исчезают — подобно тому, как в одной из парабол Кафки Прометей сливается со скалой, к которой он прикован, после чего о нем забывают. Как бы то ни было, этот принцип дословности (по-видимому, отзвук экзегезы Торы в иудейской традиции) оправдывает себя в приложении ко многим текстам Кафки. Иногда те или иные слова, в особенности метафоры, вырываются из текста и обретают независимое существование. Йозеф К. умирает «как собака» — и Кафка пишет «Исследования одной собаки». Дословность в некоторых случаях доходит у Кафки до ассоциативного каламбура. Так, в «Замке» в истории семьи Барнабаса, там, где речь идет о чиновнике Сортини, говорится, что во время праздника пожарной команды он оставался «у насоса».[39] Разговорное обозначение верного своему долгу человека принимается всерьез, важная персона остается у пожарного насоса — и одновременно, словно бы по недосмотру, возникает намек на грубое вожделение, заставляющее этого человека написать то роковое письмо Амалии (у Кафки, не уважавшего психологию, тексты изобилуют психологическими прозрениями; в частности, это касается связи в характере личности инстинктивного и навязанного извне). Принцип дословности, в меру применения которого многозначное удерживается от расплывания в безразличное, не оставляет места для весьма распространенных попыток соединить в интерпретациях Кафки претензии на глубину с необязательностью выводов. Как справедливо указывал Кокто, введение отчуждающего материала в виде сна всегда снимает остроту. Чтобы предотвратить подобные злоупотребления текстом, Кафка в один из ключевых моментов сам прерывает «Процесс» сном (этот поистине чудовищный фрагмент он опубликовал в сборнике «Сельский врач»[40]) и, по контрасту с этим сном, утверждает в качестве действительности все остальное, даже если все остальное само соткано из тех снов, о которых в «Замке» и «Америке» временами напоминают голоса, увлекающие в такие пучины страдания, что испуганный читатель уже не уверен, сможет ли он вынырнуть. Не последнюю роль в шокирующем воздействии его текстов играет то, что он принимает сны a la lettre.[41] Так как все, что не равно сновидению с его до-логичной логикой, исключается, то исключается и само сновидение. Шокирует не чудовищное, а его обыденность. Не успел землемер выставить из своей комнаты в трактире докучливых помощников, как они уже снова вернулись через окно (не задержав этим движение романа ни на слово дольше, чем необходимо для простого сообщения об этом); герой слишком утомлен, чтобы выставлять их еще раз.
Но как сам Кафка ведет себя по отношению к снам, так и читателю следует вести себя по отношению к Кафке. А именно — вживаться в несоразмерные, непроницаемые детали, в «глухие» места. То, что пальцы Лени соединены перепонками, или то, что судебные исполнители похожи на теноров, важнее, чем отступления о законе. Это относится и к изображаемому, и к языку. Часто жесты создают контрапункт к словам: до-речевое, извлеченное из намерений обуздывает многозначность, которая, как ржавчина, разъедает у Кафки всякое значение. «„Письмо, — начал К., — я прочитал. Ты содержание знаешь?“ — „Нет“, — сказал Барнабас, его взгляд, казалось, говорил больше, чем его слова. Может быть, К. ошибался в нем так же, как в крестьянах, и он был не более добр, чем они — злы, но присутствие его действовало благотворно».[42] Или: «Ну, повод смеяться был, — примирительно сказала она. — Вы спросили, знаю ли я Кламма, а я ведь… — здесь она невольно чуть-чуть выпрямилась, и снова ее самоуверенный, совершенно не соответствовавший тому, что говорилось, взгляд скользнул по К., — а я ведь его возлюбленная».[43] Или, в сцене расставания Фриды и землемера: «Фрида положила голову на плечо К.; обнявшись, они молча ходили взад-вперед. „Если бы мы, — медленно, спокойно, почти умиротворенно сказала Фрида (так, словно знала, что ей отпущено совсем немного времени отдыхать на плече К., но этим временем она собиралась насладиться до конца), — если бы мы сразу, в ту же ночь уехали, мы сейчас могли бы быть где-нибудь в безопасности, всегда вместе, твоя рука — всегда рядом, за нее можно ухватиться; мне так нужно, чтобы ты был рядом; с тех пор, как я узнала тебя, я так одинока, когда тебя нет рядом; поверь, единственное, о чем я мечтаю, — это чтобы ты был рядом, больше ни о чем“».[44] Такие жесты — это следы впечатлений, прикрытые значением. Это ранняя стадия речи, набухающей во рту того, кто говорит; это второе вавилонское столпотворение, неутомимо сопротивляющееся отрезвленно-четкой в остальном кафковской артикуляции и заставляющее его переворачивать, подобно зеркальному отражению, историческое соотношение понятия и жеста. Жест — это то самое «Вот так оно…», речь же, конфигурация которой должна быть правдой, разломана, и как таковая — неправда. «И особенно в речах вам бы надо посдержанней быть; почти все, что вы только что сказали, можно было понять и из вашего поведения, даже если бы вы всего несколько слов произнесли; к тому же все это не слишком говорило в вашу пользу».[45] За впечатлениями, отстоявшимися в жесты, рано или поздно следует толкование, представляющее собой Mimesis,[46] в котором мы должны узнать всеобщее, вытесненное здоровым человеческим рассудком. «В открытом окне вновь замаячила та же карга, с истинно старческим любопытством перешедшая теперь к окну напротив этого, чтобы и дальше все видеть», — говорится в сцене ареста в начале «Процесса». Кто не чувствовал, живя в каком-нибудь пансионате, что именно так, в точности так и за ним наблюдают соседи? и кому — со всей своей отвратительной обыденностью и непостижимой неизбежностью, — кому не являлся в этом лик судьбы? Умеющий разгадывать подобные ребусы понял бы в Кафке больше, чем тот, кто видит в нем некую онтологию в картинках.
3
Само собой напрашивается возражение, что толкованию, построенному на такой основе, можно доверять не более, чем толкованию, построенному на любом ином элементе искаженного кафкианского космоса. Мол, эти его впечатления — всего лишь индивидуальные, случайные психологические проекции. И тот, кто считает, что соседи наблюдают за ним из окон или что голос, поющий в телефонной трубке, это собственный голос телефона (а тексты Кафки кишат подобными высказываниями), тот страдает навязчивыми идеями и манией преследования, а уж кто на этом выстраивает что-то вроде системы, тот просто параноик, и тексты Кафки нужны ему единственно для рационализации[47] собственного бреда. Это возражение легко опровергнуть, если рассмотреть отношение самого творчества Кафки к указанной сфере. Его фраза «Психология — в последний раз»,[48] его замечание о том, что все им написанное можно интерпретировать психоаналитически, но эти интерпретации потребуют следующих, и так ad indefinitum,[49] — все эти декларации, равно как и традиционная заносчивость недавней идеологической защиты материализма, не должны соблазнять к выводу об отсутствии у Кафки точек соприкосновения с Фрейдом. Хороши были бы те глубины, за которые его — задним числом — так восхваляют, если бы в них отрицалось то, что лежит под ними. Взгляды Кафки и Фрейда на иерархию почти неразличимы. Одно из мест «Тотема и табу» гласит: «Табу короля слишком сильно для его подданного, так как социальное различие между ними слишком велико. Но какой-нибудь министр может стать вполне безвредным посредником между ними. В переводе с языка табу на обычную психологию это означает: подданный, страшащийся колоссального искушения, которым является для него соприкосновение с королем, вполне может перенести контакт с чиновником, которому у него нет причин так уж сильно завидовать и чье положение в принципе достижимо и для него самого. Министр же свою зависть к королю может умерить сознанием власти, предоставленной ему самому. Таким образом, преодолимых различий вводящей во искушение магической силы следует опасаться меньше, чем слишком больших».[50] В «Процессе» высокопоставленное лицо произносит: «Уже одного вида третьего [стража] даже я не могу вынести»; подобное же происходит и в «Замке». Попутно это проливает свет на некий ключевой прустовский комплекс: снобизм как желание унять страх перед табу посредством вхождения в круг посвященных: «так как не близость к Кламму сама по себе была для него достойна стремлений, ему было важно, чтобы он, К., именно он, а не кто-то другой, — со своими собственными, а не чьими-то желаниями пришел к Кламму, и пришел не для того, чтобы возле него успокоиться, а для того, чтобы пройти мимо него дальше, в Замок».[51] Равным образом приводимое Фрейдом выражение délire de toucher,[52] справедливое в сфере табу, касается именно того сексуального волшебства, которое у Кафки притягивает друг к другу людей, принадлежащих иногда к далеко отстоящим друг от друга слоям общества. У Кафки есть намеки даже на заподозренное Фрейдом «искушение», а именно — убийство фигуры, олицетворяющей отца. В конце той главы «Замка», в которой хозяйка разъясняет землемеру, что для него никоим образом невозможно самому говорить с Кламмом, землемер оставляет за собой последнее слово: «„Так чего же вы боитесь? Уж не боитесь ли вы, чего доброго, за Кламма?“ Хозяйка молча смотрела ему вслед, как он сбегал вниз по лестнице, а за ним следовали помощники».[53]
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Процесс"
Книги похожие на "Процесс" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Франц Кафка - Процесс"
Отзывы читателей о книге "Процесс", комментарии и мнения людей о произведении.