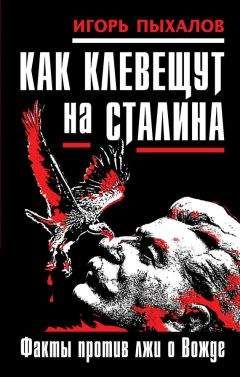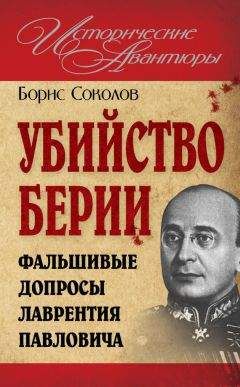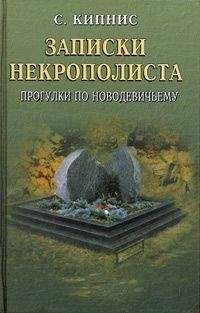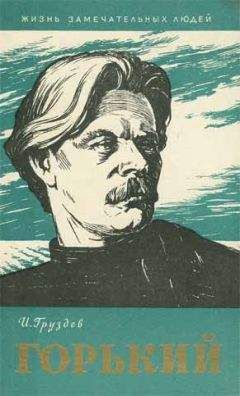Борис Фрезинский - Мозаика еврейских судеб. XX век

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Мозаика еврейских судеб. XX век"
Описание и краткое содержание "Мозаика еврейских судеб. XX век" читать бесплатно онлайн.
Книга историка литературы Бориса Фрезинского содержит 31 сюжет. Их герои — люди как общеизвестные (Соломон Михоэлс, Натан Альтман, Илья Ильф или Василий Гроссман), так и куда менее знаменитые. Все они жили в XX веке — веке мировых катастроф — и работали преимущественно на территории Российской империи или СССР. Книга не случайно начинается с повествования об убийстве Соломона Михоэлса — знакового для советской эпохи преступления, обнажившего начало нового политического курса Сталина…
В те же самые дни человек этого поколения Василий Гроссман самозабвенно работал над романом «Жизнь и судьба».
По праву памятиВторую книгу сталинградской эпопеи роман «Жизнь и судьба» Гроссман завершил в 1960-м. Друзья Гроссмана были убеждены, что если бы он отдал роман Твардовскому в «Новый мир», то катастрофа не разразилась бы. Напомню, что роман был передан в журнал «Знамя», и его редактор В. Кожевников, ужаснувшись прочитанному, отнес рукопись прямехонько на Лубянку. Остальные экземпляры ее в феврале 1961 года изъяли по ордеру — арест рукописи был новым жанром деятельности КПСС — КГБ. И хотя Гроссману удалось обмануть всемогущую контору и спасти два экземпляра рукописи, беспрецедентная жестокость, примененная к труду его жизни, убила писателя: Гроссман заболел и за три года рак свел его в могилу.
Понятно, что Твардовский не смог бы напечатать «Жизнь и судьбу», но то, что он не повез бы рукопись в КГБ, несомненно. Однако Гроссман был не в силах переступить через свою обиду — он не мог простить Твардовскому отречения от романа «За правое дело». Стенограмму погромного заседания в Союзе писателей 24 марта 1953 года, на которое Гроссман не явился, он прочел лишь в сентябре 1956 года. «Самое тяжелое чувство, — писал об этом Гроссман С. Липкину, — вызвала у меня речь Твардовского. Ты знаешь, прошло три года, я растерялся, читая его речь. Не думал я, что он мог так поступить. Он умнее других, и ум позволил ему быть хуже, подлее остальных. Ничтожный он, хоть с умом и талантом».
Эти слова горько читать каждому, кто ценит поэзию Твардовского и то, что он сделал в 60-е годы, руководя «Новым миром».
Гроссману были близки и горестно-правдивый «Дом у дороги», и звонкий «Теркин», да и сам их автор, но о «Стране Муравии» он в «Жизни и судьбе» написал недвусмысленно: «Поэт, крестьянин от рождения, наделенный разумом и талантом, пишет с искренним чувством поэму, воспевающую кровавую пору страданий крестьянства, пору, пожравшую его честного и простодушного труженика-отца»; эти слова были тем более уместны, что сам Твардовский неизменно шпынял интеллигенцию — у нее-де сердце не болит за муки крестьянства, а переживает она лишь партийные репрессии 1937 года.
Твардовский умел больно обижать, а Гроссман не знал дара забывать. Чего стоит одна только идея Твардовского в пору редактирования романа «За правое дело», в котором недоброжелателей особенно раздражал физик Штрум: «Ну сделай своего Штрума начальником военторга». — «А какую должность ты предназначаешь Эйнштейну?» — спросил его Гроссман.
Узнав об отречении Твардовского от романа «За правое дело», Гроссман пошел в редакцию выяснять отношения. Диалог был таким (воспоминания С. Липкина):
— Ты что, хочешь, чтобы я партийный билет на стол выложил?
— Хочу, — сказал Гроссман.
Твардовский вспыхнул.
Когда Твардовский не рискнул напечатать рассказ Гроссмана «Тиргартен», он — и это особенно задело Гроссмана — стал оправдываться желанием уберечь автора от неприятностей (воспоминания Л. Лазарева). Да и другие, как бы мелкие, эпизоды память Гроссмана не стирала — Гроссман, как вспоминал Борис Слуцкий, с бешенством рассказывал о Твардовском: «Он на каком-то приеме говорит мне: „Посмотри на Бубеннова, он похож на Чехова“. Дело было до 1949 года, и Бубеннов в ту пору был просто молодой, быстро идущий в гору писатель. Но Гроссман никому и ничего не прощал, даже недогадливости».
И еще два эпизода, рассказанных С. Липкиным.
После ареста романа «Жизнь и судьба» к Гроссману чуть ли не в полночь приехал Твардовский, трезвый. Он сказал, что роман гениальный. Потом, выпив, плакал: «Нельзя у нас писать правду, нет свободы». А когда сразу после смерти Гроссмана Липкин обратился к Твардовскому с просьбой перепечатать в «Новом мире» из «Литературной Армении» замечательные очерки Гроссмана «Добро вам», тот наотрез отказался. «Он сказал, — пишет Липкин, — что высоко ценит моральные качества Василия Семеновича, но что писатель он средний. Я напомнил Твардовскому о его прежних, известных мне отзывах о Гроссмане, весьма хвалебных, даже восторженных. Твардовский крепко выругался, я ответил ему в том же духе, в общем только Юз Алешковский отважился бы воспроизвести в печати нашу литературную беседу».
Гроссман умер 15 сентября 1964 года, но в девятый номер «Нового мира», подписанный к печати 9 сентября, втиснули краткое сообщение о его смерти. Гроссман был назван замечательным русским советским писателем и одним из ближайших сотрудников журнала. Еще сообщалось, что до последних дней он работал над продолжением романа «За правое дело». Конечно, это была неправда, но сто тысяч подписчиков журнала получали право интересоваться судьбой рукописи, оставшейся от умершего писателя.
B. C. Гроссман. 21 ноября 1960 г.
Автограф В. Гроссмана на книге «Народ бессмертен» (Москва, 1943): «Илье Григорьевичу Эренбургу с любовью Вас. Гроссман 25.III.43 г.»
Нас не нужно жалеть (Семен Гудзенко)
Семен Гудзенко — киевлянин, в 1939 году он приехал в Москву и поступил в ИФЛИ — самый престижный тогда гуманитарный вуз страны. В предвоенные годы поколение будущих поэтов России формировалось в трех московских вузах — ИФЛИ, МГУ и Литературном. Поэзия по социальному положению ее авторов была студенческой, хотя студенты были разновозрастными (ИФЛИ тогда заканчивал Твардовский, и в экзаменационную программу входила его «Страна Муравия»).
Время для литературы, как и для страны в целом, стояло тяжкое — шок от мощного кровопускания, совершенного в годы террора, действовал долго, полуобстрелянной молодежи поиски слова давались легче, чем старшим, чья воля была парализована. Имена молодых поэтов, по существу еще не печатавшихся, уже шумели по Москве. Фон был резким и ярким, на нем Гудзенко в глаза не бросался, недаром в его послевоенных книгах нет довоенных стихов.
Смерть умеет выбирать на войне лучших — Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Николай Майоров погибли в начале Отечественной, но их юношеские стихи стали хрестоматийными, их справедливо включают в антологии русской поэзии, справедливо не только по отношению к горькой судьбе и таланту авторов, но и по отношению к качеству поэзии.
В свой последний приезд в Питер Юрий Левитанский вспоминал, как они с Гудзенко вместе вели бой, — вряд ли история войн знала второй такой случай: два поэта за одним пулеметом…
Гудзенко повезло — он был тяжело ранен, но не погиб.
В 1942-м он написал первые стихи, вписавшие его имя в русскую поэзию навсегда. В 1943-м их напечатало «Знамя». Значение этой публикации для поэзии того времени сравнимо лишь со значением, которое имела для прозы публикация «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова все в том же «Знамени». Люди, не забывавшие стихов в окопах, поняли, как можно и как нужно говорить о том, что они видят и чувствуют. Официальной литературе предписывалось учить новых Матросовых легкости подвига, а Гудзенко писал:
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв. И лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Конечно, Гудзенко повезло — он не погиб, он написал замечательные стихи, и эти стихи тут же напечатали.
Приехав после ранения в Москву, Гудзенко пришел к Илье Эренбургу, чье влияние — литературное и политическое, а вернее, политическое и литературное — было тогда беспрецедентным, и прочел ему свои стихи. «Молодой человек читал очень громко, как будто он не в маленьком номере гостиницы, а на переднем крае, где рвутся снаряды. Я повторял: „Еще… еще“», — так вспоминал эту встречу уже совсем старый Эренбург, а тогда, в 1942-м, он сделал все, что мог, — публикации стихов, литературный вечер в Москве, рецензии. Выступая на первом вечере Гудзенко в Москве, Эренбург определил самую суть его стихов: «Это поэзия изнутри войны. Это поэзия участника войны. Это поэзия не о войне, а с войны, с фронта». Стоит привести еще один фрагмент этой стенограммы, чтобы понять атмосферу 1943 года, немыслимую тремя годами раньше. Как известно, в 1936 году прошла первая, инспирированная лично Сталиным кампания борьбы с инакомыслием в культуре, провели ее под лозунгом «борьбы с формализмом»; жертв было много, и жертвы были золотой пробы — Шостакович, Мейерхольд, Тышлер… Итогов этой кампании никто не отменял. И тем не менее Эренбург без всякой фронды, спокойно и сознательно заявил, что в поэзии Гудзенко «есть то, что есть в музыке Шостаковича, то, что было в свое время названо смесью формализма с натурализмом, что является смесью барокко с реализмом». В 1936-м такая аттестация означала волчий билет, в 1943-м Гудзенко печатали лучшие журналы Москвы.
Слава не испортила поэта, она придала ему уверенности; его стихи 1944–1945 годов столь же хрестоматийны, как и написанные в 1942-1943-м. От имени своего поколения Гудзенко говорил со спокойной уверенностью человека, исполнившего свой долг:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Мозаика еврейских судеб. XX век"
Книги похожие на "Мозаика еврейских судеб. XX век" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Фрезинский - Мозаика еврейских судеб. XX век"
Отзывы читателей о книге "Мозаика еврейских судеб. XX век", комментарии и мнения людей о произведении.