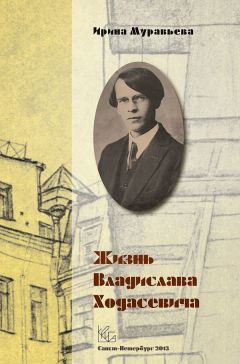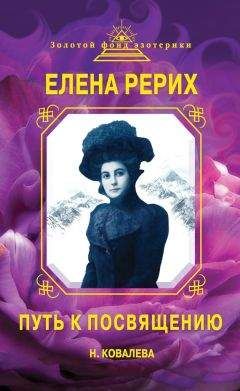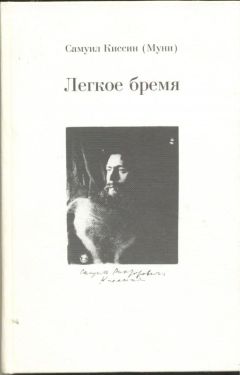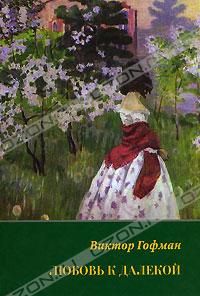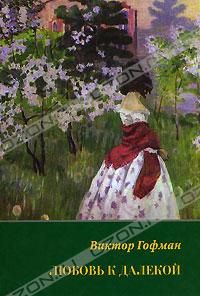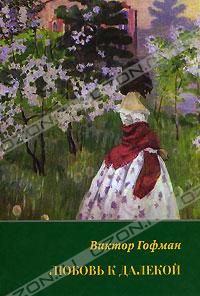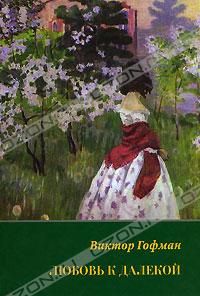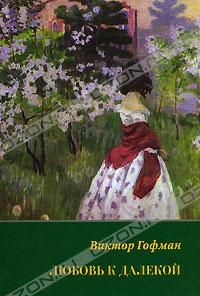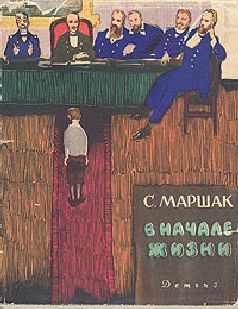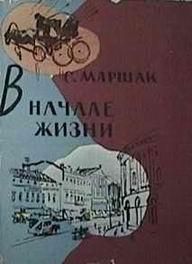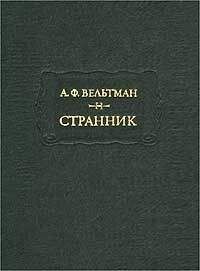Самуил Киссин - Легкое бремя
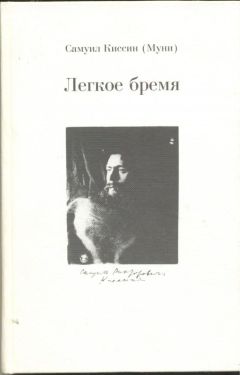
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Легкое бремя"
Описание и краткое содержание "Легкое бремя" читать бесплатно онлайн.
С.В. Киссин (1885–1916) до сих пор был известен как друг юности В.Ф. Ходасевича, литературный герой «Некрополя». В книге он предстает как своеобразный поэт начала XX века, ищущий свой путь в литературе постсимволистского периода. Впервые собраны его стихи, афоризмы, прозаические фрагменты, странички из записных книжек и переписка с В.Ф.Ходасевичем. О жизни и судьбе С.В.Киссина (Муни) рассказывается в статье И.Андреевой.
Но главными персонажами воспоминаний стали Муни и Евгения Муратова. Первое стихотворение, обращенное к героине «Счастливого домика», появляется на листе 15-ом.
В беседе бедной [скудной, жалкой, хладной], повседневной
Сойтись нам нынче суждено,
Как было б горько [дико] и смешно
Теперь назвать тебя царевной!..
(Начато 20. IV. 1920 г.)
Ничего кроме скудного быта — повседневности не связывает больше поэта с женщиной, которая по-прежнему живет в Москве, в Долгом переулке, служит в Наркомпросе, забегает к нему в гости, да вот совсем скоро появится на Плющихе в день рождения Ходасевича.
Но стоит вызвать в памяти образ Муни, болезненно-тревожная интонация свидетельствует: проходит не все, даже смерть не может оборвать это родство, потребность говорить.
Я хожу по острым иголкам,
Как русалка в зеленом саду…
Расставляя книги по полкам,
[Только ставя книги]
Все ж надеюсь, верю и жду.
[В день Любви, Надежды и Веры
Ветерок, холодок и дождь
Падает [Мутный] сумрак изжелта-серый
На сучья безлистых рощ.
О, как жутко на этом свете!
О, как скучно, должно быть, тебе,
Если здесь, в моем кабинете…]
(19. IX. 920)
Это последнее стихотворение в тетради, оборвано на полуслове, многие слова, и последние две строфы зачеркнуты. О том, что оно обращено к Муни, говорят и интонация, и оппозиция того и этого света, и поэтические касания, вроде сдвоенных прилагательных, любимых Муни (изжелта-серый). Стихотворение продолжает Мунин цикл («Ищи меня», «Проходят дни, и каждый сердце ранит…»), но Ходасевичу недостаточно воспроизвести голос друга, ощутить заново живое чувство близости: он пытается понять, что значил для него ушедший, что связывало их и что утрачено со смертью Муни.
На эти вопросы отвечает стихотворение «Апрельский дождик…», которое мы приведем со всеми вариантами, зачеркнутыми словами и строчками. Страницы тетради сохранили историю рождения стихотворения: сначала поэт вывел строчку Пушкина: «Ты — Царь. Живи один», затем последовало: «Один. Себе лишь одному…», «Ну вот, живу один. А где же царство? Последний раб меня богаче: он…» Из этих горьких размышлений появилось стихотворение, обращенное к другу.
Апрельский [капризный, лукавый] дождик слегка накрапывал,
Но мы с тобой сквозь дырявый зонт
Увидели небо такое синее,
Какое видит только душа, [видно только душе]
И [мы] зашатались от счастья и тяжести,
[мира пьяные]
Как может [смеет] шататься один [разве] Атлант.
И то, что для встречных было безрифменно,
Огромной рифмой [с]вязало нас.
О, друг [неверный, единственный] терзатель безжалостный,
Ведь мы же [по]клялись: навек, навсегда.
Зачем же после с такой жестокостью
Меня ты бросил здесь одного?
Стихотворение написано 24 июня 1920 г., а несколько раньше, 5 июня Ходасевич вызвал стихами образ царевны таким, каким запечатлело ее молодое чувство:
Я помню вас, дары богов:
[Вино в стаканах, сок плодов]
Сок вишен, аромат плодов,
[Беложемчужный ряд зубов],
И стан, шнурком стесненный,
[И томный голос, и вино]
[И ночь, и клятвы и вино] Любовь без клятвы…
А утром я открыл окно
На via delle Belle Donne.
Разминувшиеся в жизни Муни и Евгения Муратова прошли парой через всю тетрадь, — дружба и романтическая страсть молодых лет. Но каждому отведено свое место: она — созданная радостью и силой жизни молодого чувства, случайно воплотившаяся в конкретную фигуру, случайно названная этим именем. Заметьте: в стихах ее заслоняют, а скорее — составляют конкретные, вещественные детали и подробности: вино в стаканах, сок вишен, аромат плодов, беложемчужный ряд зубов, шнуровка платья, окно и утренняя улица Венеции. Эта полнота жизни, наполняющая бестелесную, точнее — безличную фигуру молодой любви еще ярче продемонстрирована в стихотворении: «Нет ничего прекрасней и привольней, // Чем навсегда с возлюбленной расстаться…» На этот раз отсутствие ее заполняет мир видимый, чувствуемый: «запах рыбы, масла прогорклого и овощей лежалых», мосты и улицы, ресторанчики с «бутылкою “вальполичелла”», «финал волшебной увертюры “Тангейзера”». Мир звучит, как оркестр, ударяя разом по всем струнам, обостряя запахи, ощущение вкуса, слуха, глаза, подстегнутые чувством любви или разлуки:
……………………………….. «Уж теперь
Она проехала Понтеббу». Как привольно!
На сердце и свежо, и горьковато.
В стихах к Муни вещный, предметный мир проявляется в тех случаях, когда надо обозначить призрачность героя, как в стихотворении «Ищи меня»: соединяют их небо, дождь, поэзия, чувство ответственности и минуты разделенного счастья, а дырявый зонт (единственная бытовая подробность) только подчеркивает состояние освобождения от повседневности, взаимного понимания и единения, неподвластные разрушению.
«Любовь без клятвы», — написал поэт рядом с банально-романсовой строкой: «И ночь, и клятвы, и вино». «Любовь без клятвы» — это в представлении Ходасевича тех лет формула любви. В то время как дружба требует клятв «навек, навсегда». Любовь — «случайный дар богов», «причуда сердца», дружба требует духовного волевого действия, выбора. Юная возлюбленная, проживи она хоть сто лет, осталась в прошлом, таком далеком, что может взволновать разве молодого поэта, которому предстоит прочесть «стихи, внушенные тобой». Образ друга, пусть «заочного», — не отступает в прошлое, не блекнет; его судьба, его смерть и жизнь вызывают живую боль, обиду, раскаяние, гордость, наконец. Вот когда Ходасевич самоотрешению уступил первенство, которое так отстаивал и за которое боролся в дни их совместной жизни.
Нет, не хочу ни пошлой [здешней] славы,
Ни жизни мелочных забот,
Твой призрак, гордый и кровавый,
На путь иной меня зовет.
Ни раскаяние, ни эмиграция — чужая жизнь среди чужих людей — другая жизнь — не освободили Ходасевича от мыслей о Муни. Порой кажется, что в первые годы эмиграции чувство близости с ушедшим только усилилось.
О Муни уже никто не помнит. Андрей Белый, в 1923 году собирая книгу стихов и включая в нее стихи, Муни посвященные, снял посвящения. В самом деле, что это за странный иероглиф — «Муни»? В 1927 г. снял посвящение и Ходасевич. Даже Лидия Яковлевна, человек определенный, четкий, мне кажется, задумывалась порой: с кем соединила ее судьба? Среди ее конспектов сохранилось библиотечное требование, знакомый листок для заказа книг в библиотеке им. Ленина 1934 года, на котором графологом, скорее всего графологом-любителем, записана расшифровка Муниного почерка. Портрет вышел любопытный, и те, кто хочет его прочесть, найдут его в примечаниях[262]. Меня удивило это робкое заглядывание в прошлое, с надеждой получить ответ: кто он?
Ходасевич каждой клеточкой ощущал Муни, узнавая, находя отражение многих его черт в себе. Тем более, что в конце 20-х — начале 30-х годов он вдруг понял, что очутился перед поворотом, который Муни преодолеть не смог. Вероятно, так же, как Муни в 1916 году, он подошел к той смене эпох, стыку, через который не имел сил перебраться: он заметался, не находя места, задыхаясь, не узнавая местности, и — замолчал.
Небо, которое они видели, чувствовали и сквозь дырявый зонт, — исчезло, его не стало. Поэт очутился «Под землей», «где пахнет черною карболкой», в глубоком подвале дома свидании («Звезды») или подвальном полутемном кафе («Атлантида»), без окон и света, где только дешевые картинки на стенах напоминали, что где-то есть свет, воздух, движение. Он «загонял» «своих ангелов», которых вынуждал спускаться все ниже и ниже, «в теснины и трущобы», и они летели все тяжелей — «сквозь провода». До поры стремительное, шелковое, свистящее и летящее в небо, как стрела, сквозь вытягивало и стихи, и автора. Но в конце концов небо и земля сомкнулись в одну линию, не оставив и щелочки для продыху.
Адом для Ходасевича стал подвал французского кафе, того ли, где написаны «Звезды» («Вверху — грошовый дом свиданий, // Внизу — в грошовом казино…»), или кафе «Murate», изображенного в «Атлантиде», — приличный, чистый подвал, где столы натерты воском и блестит кафельный пол. Но ведь Данте (а от «Божественной комедии» к творчеству Ходасевича тянется множество линий) писал об аде: «То был, верней, естественный подвал с неровным дном, и свет мерцал убого» (Перевод М. Лозинского).
Ходасевич с какого-то момента отказался публиковать стихи, а среди них были «Памятник» (1928), «Не ямбом ли четырехстопным…» и «Памяти кота Мурра» (1934), «Сквозь уютное солнце апреля» и «Нет, не шотландской королевой…» (1937).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Легкое бремя"
Книги похожие на "Легкое бремя" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Самуил Киссин - Легкое бремя"
Отзывы читателей о книге "Легкое бремя", комментарии и мнения людей о произведении.