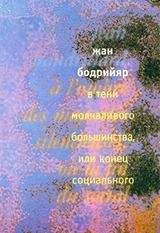Георгий Дерлугьян - Адепт Бурдье на Кавказе: Эскизы к биографии в миросистемной перспективе

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Адепт Бурдье на Кавказе: Эскизы к биографии в миросистемной перспективе"
Описание и краткое содержание "Адепт Бурдье на Кавказе: Эскизы к биографии в миросистемной перспективе" читать бесплатно онлайн.
«Тысячелетие спустя после арабского географа X в. Аль-Масуци, обескураженно назвавшего Кавказ "Горой языков" эксперты самого различного профиля все еще пытаются сосчитать и понять экзотическое разнообразие региона. В отличие от них, Дерлугьян – сам уроженец региона, работающий ныне в Америке, – преодолевает экзотизацию и последовательно вписывает Кавказ в мировой контекст. Аналитически точно используя взятые у Бурдье довольно широкие категории социального капитала и субпролетариата, он показывает, как именно взрывался демографический коктейль местной оппозиционной интеллигенции и необразованной активной молодежи, оставшейся вне системы, как рушилась власть советского Левиафана».
Оглядываясь назад, мы сегодня вполне четко видим, что разнообразие вариантов посткоммунистического переходного процесса после 1989 г. было по большей части задано вариациями политических итогов 1968 г.[88] Иначе говоря, эффект общественных выступлений 1956, 1968 и ранних 1980-x гг. в Венгрии, Чехословакии и Польше явно сказался на скорости и устойчивости их демократического преобразования после 1989 г.
Но не все так однозначно. В Югославии мощное давление молодежных движений 1968 года привело к принятию новой, проникнутой духом «социалистического самоуправления», конституции 1974 г. Тогда это разительно контрастировало с советским официозом. Новая югославская конституция воспринималась как самый интересный и многообещающий демократический эксперимент в Восточной Европе, если не во всем мире. Среди многого прочего новая конституция Социалистической Федеративной Республики Югославии предоставляла широкую автономию албанскому большинству Косова и юридически признавала существование мусульманской славянской национальности в Боснии и Герцеговине[89]. Мало кто тогда задумывался, что на деле Югославия становилась не федерацией, а скорее запутанной и рыхлой конфедерацией этно-территориальных автономий и самоуправляемых рыночно-социалистических предприятий. До тех пор пока Югославия оставалась успешным государством догоняющего развития и гордо сохраняла самобытный международный престиж лидера Движения неприсоединения (по отношению к соперничающим сверхдержавным блокам «холодной войны»), элиты югославских республик преследовали самоограничительные политические стратегии выторговывания перераспределительных преимуществ внутри Югославской федерации. Однако в условиях мирового экономического кризиса и геополитической подвижки конца 1980-x гг. оба источника силы и престижа Югославии резко обесцениваются. Вот тогда и обнаруживается, насколько легко (сколь и безрассудно) югославские элиты могли перейти от центростремительных к центробежным политическим стратегиям.
Южнославянское союзное государство на Балканах, конечно, уже изначально занимало крайне уязвимое место в мировой экономике и геополитике. Тем большей выглядит заслуга Иосипа Броз Тито, сумевшего в таких условиях построить весьма успешное государство, талантливо и необычно встроенное в международный режим «холодной войны». Однако с резким изменением мирового климата на рубеже 1970-1980-x гг. сохранение Югославии становится еще более проблематичным, чем сохранение Советского Союза. Но даже в тот момент серия разрушительных этнических войн еще не была предопределена роковым образом. Конфликт мог произойти вокруг распределения политической власти внутри, а не меж республик. Иначе говоря, энергия социального взрыва в 1989 г. могла высвободиться в направлении демократического захвата власти и собственности на уровне республик и, возможно, всей Югославской федерации[90]. Хотя сохранение федеративной структуры выглядит сомнительно (слишком велика была разница экономических потенциалов и проблем отдельных республик), даже тогда вероятный распад Югославии протекал бы менее кроваво и вполне бы вписывался в общее русло происходившего тогда в Польше, Венгрии, Чехословакии и Прибалтике – где, заметим, вполне хватало собственных поводов и средств для этнических войн. Однако там до войны так и не дошло.
Югославия действительно отличалась от остальных социалистических стран Восточной Европы, но не столько особой ролью насильственных образов поведения и «балканизированных» до предела этнических идентичностей (это из области обычных мифов), сколько институциональной архитектурой, легитимирующими практиками государственной власти, автономной от обоих противостоящих блоков военизацией и некогда знаменитой югославской самостоятельностью на международной арене. Показателен контраст не только с Венгрией и Чехословакией, но и с соседней Болгарией, в социалистические времена являвшей противоположность Югославии по всем перечисленным измерениям. Социалистическая Болгария была отмечена бюрократическим централизмом, подавлением инакомыслия и геополитической несамостоятельностью. В 1990-e гг. Болгария пережила криминализацию политики и распад государственной власти, не менее глубокие и «балканские», чем в Югославии. И тем не менее присутствие в Болгарии стигматизируемого и оттого весьма мобилизованного турецкого меньшинства вылилось лишь в циничный политический торг в новом конкурентном парламенте, но, слава богу, не привело к резне в деревнях[91].
Государственно ориентированная теория революций, восходящая к работам Теды Скочпол и Чарльза Тилли, открывает путь к созданию более реалистичной теории этнических конфликтов. Трагический пример Югославии особенно наглядно иллюстрирует преимущества такого подхода, который способен четко и без обычных этнополитических мифологем проследить причинно-следственные цепочки и механизмы возникновения югославских войн. Их непосредственные истоки следует искать в специфической дифференциации доступа к ресурсам бюрократий различного уровня и возникающих из общества претендентов на власть. По горькой иронии истории, кризис югославской модели догоняющего развития вылился в катастрофические этнические войны именно потому, что прежде это была наименее авторитарная и наиболее самостоятельная модель восточноевропейского госсоциализма. Быстрое обретение и безжалостное применение собственных армий бывшими субъектами СФРЮ, конечно, было психологически подготовлено травматичной памятью о прежних балканских войнах. Но в отличие от этнополитологов и национальных интеллигенций, реальные армии не воюют одной лишь исторической памятью. Способность федеративных республик быстро перейти от политического торга к войне была результатом их высокой степени автономии, проистекавшей из запутанных конституционных компромиссов, в свой черед заключавшихся ради преодоления протестной волны 1968 г. Ожесточенную схватку за окончательный раздел югославского наследия спровоцировали не Ватикан с Германией, дотоле, в период устойчивости, не имевшие никакой возможности вмешаться в югославские дела, и не фантомы этнического воображения, почему-то проспавшие предшествующие десятилетия успешного и динамичного развития. Распри и взаимные подозрения внутри теряющей власть югославской бюрократии нарастали в течение предшествовавшего войнам десятилетия под давлением затяжного экономического кризиса, возникшего на рубеже 1970-1980-х гг. Начало экономического кризиса совпало со смертью Тито, олицетворявшего одновременно героическое наследие партизанской освободительной войны, национальное единство и международный суверенитет Югославии. Спусковым же механизмом открытого конфликта оказалась угроза новой протестной волны снизу, ставшая реальной в 1989 г. Видя судьбу бывших номенклатур Восточной Европы, югославские элиты пустились в непредсказуемые и крайне опасные импровизации.
Комфортное старение советской власти
Советский Союз в последние тридцать лет своего существования также пережил процессы, наблюдаемые в Югославии и соцстранах Центральной Европы. Однако эти процессы развивались в более приглушенных формах. Все-таки СССР был несоизмеримо более мощным государством, и его руководители имели в своем распоряжении куда больше экономических рычагов и инструментов устрашения. Тем не менее и без всякого «социалистического самоуправления» по-югославски, хорошо известно и достаточно документально изучено, как при Брежневе ослабевал контроль Москвы над национальными республиками и как номенклатура на местах, даже в самой лояльной Белоруссии, изолировала свои властные вотчины и упрочивала позиции[92].
Кроме того, период хрущевской «оттепели» позволил творческой интеллигенции национальных республик обрести разную степень самостоятельности. Несмотря на борьбу московских и местных консерваторов за восстановление прежнего официозного контроля, национальные интеллигенции даже в условиях брежневского режима в той или иной мере смогли отстоять если не национальные гражданские общества, то по крайней мере социальные сети поддержания национальной культуры и собственной творческой автономии.
Параллельно этим процессам в полях власти и культуры образованные специалисты и рабочие продолжали оказывать весьма сильное давление на правящую бюрократию, различными путями добиваясь выполнения обещаний по повышению уровня жизни и обеспечению возможностей для социального роста. В отличие от преимущественно символической интеллигентской «антиполитики» времен заката госсоциализма, давление со стороны непосредственно производительных групп общества носило, как правило, неявный и даже не особенно осознанный характер. Люди просто по-разному выражали свои не слишком четкие ожидания «нормальной жизни». Однако именно эти социальные группы численно преобладали в позднесоветском обществе. От них же – рабочих, инженеров, служащих и управленцев нижнего звена, прикладных ученых, преподавателей и медработников, от вполне преданных режиму, но также не избавленных от способности рассуждать армейских офицеров и низовых политработников – зависело повседневное воспроизводство индустриальной экономики и советского государства. Даже элементарное поддержание режима требовало от этих широких слоев советского общества как минимум конформизма и пассивного соблюдения правил. За что власти теперь предпочитали платить.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Адепт Бурдье на Кавказе: Эскизы к биографии в миросистемной перспективе"
Книги похожие на "Адепт Бурдье на Кавказе: Эскизы к биографии в миросистемной перспективе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Георгий Дерлугьян - Адепт Бурдье на Кавказе: Эскизы к биографии в миросистемной перспективе"
Отзывы читателей о книге "Адепт Бурдье на Кавказе: Эскизы к биографии в миросистемной перспективе", комментарии и мнения людей о произведении.