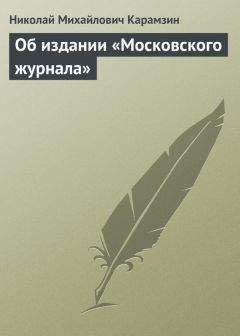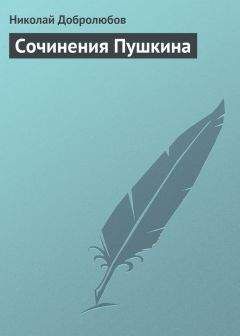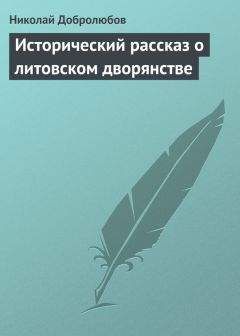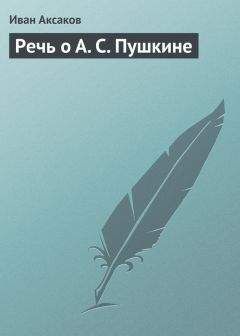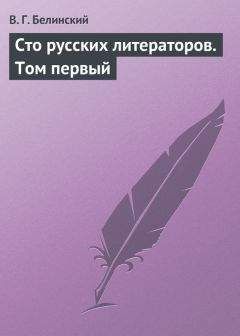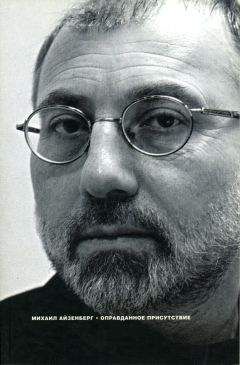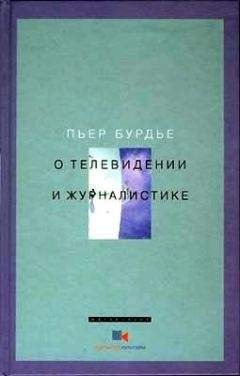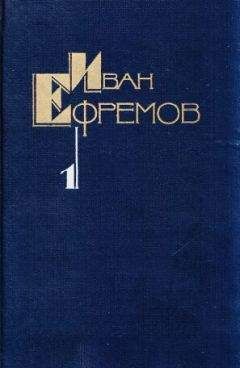Михаил Семевский - Прогулка в Тригорское
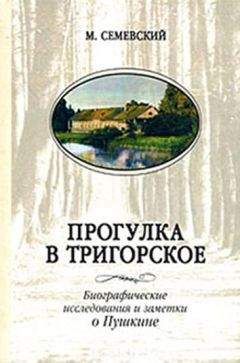
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Прогулка в Тригорское"
Описание и краткое содержание "Прогулка в Тригорское" читать бесплатно онлайн.
Книга представляет в полном объеме работы о Пушкине М.И.Семевского, одного из самых видных биографов поэта. Они снабжены подробным комментарием, освещающим жизненный и творческий путь Пушкина, в особенности тех его страниц, которые связаны с Михайловским и Тригорским.
Вымдонские принадлежат к одной из русских коренных, дворянских, фамилий. Дмитрий Вымдонский в 1710 году был подпоручиком в семеновском полку, а в 1733 году произведен в поручики, но только в 1736 году выхлопотал себе на этот чин патент и проч. Впрочем, сын его Максим Дмитриевич был счастливее его по службе. В 1739 году подпоручик семеновского полка Максим Вымдонский в царствование Елисаветы Петровны принимает участие в одной весьма секретной командировке, имевшей тогда для нового правительства России громаднейшее значение: вместе с некоторыми другими лицами, уже капитан-поручик лейб-гвардии семеновского полка Вындомской (будем писать его так, как теперь пишется эта фамилия) был в том конвое, под прикрытием которого перевезена, в 1742 году, бывшая правительница Анна Леопольдовна и ее семейство, вместе с развенчанным малюткой императором Иоанном VI Антоновичем, из крепости Динаминд в Раненбург (Ораниенбург), ныне уездный город Рязанской губернии. Здесь злополучное семейство вместе с Вындомским, бывшим в числе его главных тюремщиков, пробыло почти до сентября 1744 года.
27-го июля 1744 г. действительный камергер Николай Андреевич Корф получил указ за подписью государыни — ехать в Раненбург, взяв с собою пензенского пехотного полка майора Миллера и, оставя последнего верстах в трех пред городом, самому, по приезде туда, вручить, из числа приложенных к сему указу еще двух других, первый лейб-гвардии семеновского полка капитану Вындомскому, а второй лейб-гвардии Измайловского полка майору Гурьеву; затем, «припася как наискорее коляски и нужные путевые потребности, отправить Вындомского вперед, для заготовления лошадей, и когда получится от него донесение о поставке их до Переславля Рязанского, то тотчас, взяв ночью принца Иоанна, сдать его с рук на руки майору Миллеру, тоже с приложенным особо указом, с тем, чтобы майор этот, нимало не медля, отправился в назначенный сим указом путь [36]. На другой же день, также ночью, взять принцессу Анну с мужем и остальными детьми (двугодовалою Екатериною и годовалым ребенком — Елизаветою), а также с находящимися при них людьми, в том числе штаб-лекарем и с нужными на проезд и первое время лекарствами, ехать со всеми ими, в сопровождении майора Гурьева, прапорщика Писарева, трех унтер-офицеров и тринадцати солдат, к Архангельску, а оттуда — в Соловецкий монастырь». Как ни интересно, однако, проследить путешествие злополучного семейства, которому, как известно, суждено было вместо Соловок-поселиться в другой тюрьме, в Холмогорах, тем не менее мы, сберегая место, да и сознавая, что это к делу не идет, скажем в двух словах, что во всем этом печальном эпизоде Вындомской был одним из деятельнейших исполнителей воли императрицы Елисаветы и лиц, поставленных ею у кормила правления. Иоанн Антонович, как известно, около 1746 года был разлучен с родителями и перевезен в Шлиссельбург; но Вындомской оставался «при секретной комиссии» (так на официальном языке того времени называлась брауншвейгская фамилия) до 1753 г.; был ли Вындомской при этой фамилии в остальное время — мы не знаем, но, кажется, что в последние годы царствования Елисаветы и при Петре III Вындомской, тогда уже секунд-майор, был комендантом Шлиссельбурга. Екатерина II, в первые же дни по восшествии своем на престол, озаботилась окружить шлиссельбургского царственного узника Иоанна новыми стражами и поэтому удалила Вындомского, но удалила, по своему обыкновению, с полным почетом и щедрыми наградами. Вот рескрипт государыни, ею подписанный. Подлинник хранится в семейном архиве села Тригорского:
«Господин Вымдонской!
Мы всемилостивейше приняв в уважение долголетние и верные Нам и отечеству ваши службы, пожаловали вас вечною отставкою от всей военной и гражданской Нашей службы с награждением вам чина генерал-майорского, и сверх того наградили вас в вечное и потомственное наследное владение из нашей дворцовой волости в Псковском уезде [37] деревнями, прозываемыми Егорьевская губа, в которой по последней ревизии состоит 1085 душ, о чем в Наш Сенат и особливый уже указ дали; а вам особенно чрез сие объявляем, что наше императорское к вам благоволение всегда пребудет. Санкт-Петербург. 1762 года июля в 29 день.
Екатерина» [38].
Нынешний погост Воронич в 1762 году считался в Псковском уезде, в границу которого, таким образом, входила и Воронечская дворцовая волость. Вообще в этих местах было много дворцовых сел, и некоторые из них в начале царствования Петра I принадлежали семейству царицы Прасковьи Федоровны. Тригорское (название, данное селу уже Вындомским) является, как видно из приведенного документа, даром императрицы Екатерины II Максиму Вындомскому, который здесь и поселился, здесь и умер. Но главным зиждителем Тригорского, основателем его сада и вообще лучшим хозяином в нем, был уже сын Максима — Александр Максимович Вындомской. По примеру отца, он служил сначала в лейб-гвардии семеновском полку, записанный туда с 1756 г.; затем в 1778 году был капитан-поручиком, а два года спустя уволен «в статскую службу с пожалованием чина армии полковником». Мы уже упоминали об образовании этого человека, о его связях с Новиковым и любви Вындомского к книгам. Наследовав весьма значительное имение, Александр Максимович составил себе, как говорится, партию, женившись на Марье Кашкиной, дочери генерал-аншефа Евгения Петровича Кашкина, любимейшей питомицы Вожжинского, одного из приближеннейших лиц императрицы Елизаветы Петровны. Все эти связи, разумеется, нимало не могли служить «к умалению чести и достатка Вындомского», и как честь, так и достаток его преизбыточествовал. В холе и среди самых нежных забот умного и просвещенного отца росла Прасковья Александровна Вындомская (род. в 1780 г.). Кажется, еще при жизни своего отца (умершего около 1813 г.)[39]. Прасковья Александровна вышла замуж за Николая Ивановича Вульфа[40], человека мало чиновного (умер коллеж. асессором), но почтенного, умного и весьма достаточного [41]; потеряв мужа первого (от которого имела детей Анну, Алексея и Евпраксию)[42], Прасковья Александровна вторично вышла за отставного чиновника почтамтского ведомства, Ивана Сафоновича Осипова (умер около 1822 г.)[43], от которого имела дочерей Александру, Катерину и Марию; обо всех их мы уже упоминали в предыдущем письме. Прасковья Александровна получила лучшее, по своему времени, образование; она в совершенстве знала языки французский и немецкий, любила читать, следила за литературой, искала и умела поддержать связи с представителями отечественной словесности 1820–1830 годов. С семейством Пушкиных Прасковья Александровна, как ближайшая их соседка по имению, была знакома с самого детства; знакомство это было столь близко, что оба семейства принимали друг в друге самое родственное участие[44].
При посредстве Пушкиных Прасковья Александровна познакомилась и подружилась с А. И. Тургеневым, В. А. Жуковским, бар. А. А. Дельвигом; через тех же Пушкиных или, вернее сказать, при посредстве A.C. Пушкина — также с П.А. Плетневым, Е.А. Баратынским, И. И. Козловым и некоторыми другими «известностями» своего времени; в Языкове она видела товарища и друга своего сына. Наконец, Прасковья Александровна знала и поэта Мицкевича…
С большею частью названных лиц владелица Тригорского вела переписку; альбомы тригорской помещицы были исписаны произведениями ее талантливых знакомых — ей посвящали стихотворения свои Пушкин, Языков, Дельвиг… Всего этого довольно, чтобы убедиться в том, что женщина эта имела ум, имела образование, имела и нравственные достоинства, которые вызывали к ней уважение и любовь таких людей, как Пушкин и его созвездия. Но — следует ли из этого, чтоб женщина эта была чужда недостатков? Недостатки в ней были и недостатки большие; она была довольно холодна к своим собственным детям, была упряма и настойчива в своих мнениях, а еще более в своих распорядках, наконец, чрезвычайно самоуверенна и, вследствие того, как нельзя больше податлива на лесть. Все эти недостатки особенно развились в Прасковье Александровне под старость, когда на сцену выступили и физические недуги; явилось и ханжество, а вместе с тем явились люди, которые, окружив оригинальную старуху, сделали закат ее жизни поистине крайне печальным. Притом тогда же начались у нее неприятности по хозяйству. Хозяйство у нее вообще шло всегда довольно плохо, а пред ее кончиной [45] до того дурно, что если б не энергия и не находчивость Алексея Николаевича Вульфа, то знаменитое Тригорское пошло бы за бесценок в чужие руки[46].
Но, позволяя себе, в качестве правдивого летописца Тригорского, не скрывать недостатков покойной его помещицы, мы тем с большею искренностью должны заявить, что по отношению к своим «знаменитым друзьям», в особенности к Пушкину, эта, во всяком случае, весьма и весьма почтенная женщина, была самым нежным, самым добродушным, искренно любящим другом. Она любила Пушкина едва ли не более своего сына, и в бытность поэта в изгнании (1824–1826 гг.) окружила его такою нежною истинно материнскою заботливостью, о которой тот до конца жизни вспоминал с глубочайшею признательностью и любовью. Пушкин, как известно, почти не знал ласки родной матери, не видал любви и попечения о себе и от отца, пустого и довольно ничтожного человека; тем сильнее ценил он ласки и заботливость Прасковьи Александровны. Да и как было ему не ценить дружбу и любовь ее? В самый мрачный, в самый печальный период своей жизни, убитый тоскою ссылки, не видя впереди себя исхода из своего печального положения, Пушкин под кровом Тригорского находит столь живое участие; в среде просвещенного семейства Прасковьи Александровны поэт встречает девушку, исполненную красоты, ума и грации (Евпраксия Николаевна), воспламеняющую его сердце огнем чистой и возвышенной любви[47]; музыка, наука, поэзия, красота, природа, все соединяется в одно гармоническое целое, все составляет ту атмосферу, в которой отдыхает поэт после всей горечи прошедшей своей жизни, вполне счастливый в окружающей его среде, насколько можно быть счастливым человеку, не имевшему права отлучиться в какой-нибудь десяток верст без полицейского разрешения. Пушкин не только не бросает в это время пера, нет, он пишет лучшие свои произведения и работает, работает так, как никогда до того времени не работал! Чарующее, обаятельное влияние имел этот уголок на Пушкина! Истомленный, измученный в борьбе со всевозможными пошлостями и невзгодами последующей жизни своей в Петербурге, куда спешит отдыхать Пушкин? — в Тригорское; где, мечтает поэт, негодуя на пустоту окружающей его жизни в столице, найду я отраду и покой своей измученной душе? — под сенью того же Тригорского… Как же не помянуть нам добрым словом этот счастливый приют поэта, как не отозваться честным, искренним и добрым словом похвалы об его обитателях и обитательницах?
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Прогулка в Тригорское"
Книги похожие на "Прогулка в Тригорское" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Семевский - Прогулка в Тригорское"
Отзывы читателей о книге "Прогулка в Тригорское", комментарии и мнения людей о произведении.