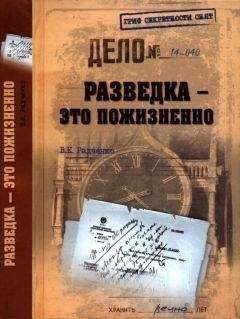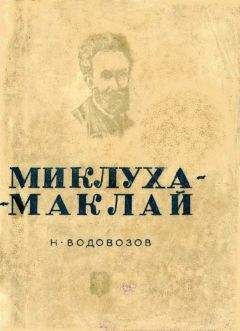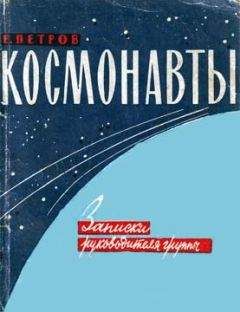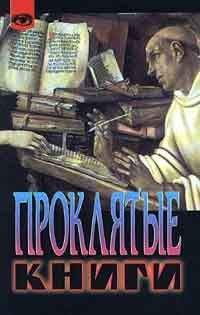Давид Шраер-Петров - Охота на рыжего дьявола. Роман с микробиологами
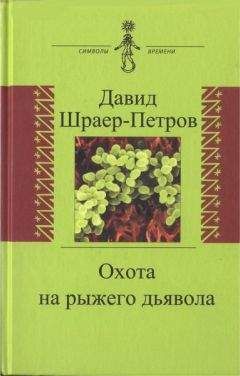
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Охота на рыжего дьявола. Роман с микробиологами"
Описание и краткое содержание "Охота на рыжего дьявола. Роман с микробиологами" читать бесплатно онлайн.
Автобиографическая проза известного поэта и прозаика Давида Шраера-Петрова (р. 1936) описывает фактически всю его жизнь и профессиональную деятельность — в качестве ученого-микробиолога и литератора, от учебы в школе до наших дней. Закончив мединститут в Ленинграде, Шраер прошел сложный путь становления ученого-исследователя, который завершился в США, куда он эмигрировал с семьей в 1987 году. Параллельно вполне успешно развивалась и литературная судьба Шраера-Петрова, его книги выходили в СССР, а затем в России, его репутация неизменно росла. Читатель этой книги узнает из первых рук о сложной судьбе русского интеллигента, долгое время жившего в качестве «отказника» в контексте советского строя, но в конце концов реализовавшего в США многие свои жизненные устремления.
Летом 1959 года я приехал впервые в Тбилиси и отправился в Сабуртало. По дороге в каком-то погребке на проспекте Руставели отведал пельменей (хинкали) с наперченной до слез начинкой и напился ароматнейшей газированной воды Лагидзе. Утренний Тбилиси приходил в себя после вчерашних застолий. Дворники-курды подметали тротуары швабрами. Их жены в зеленых косынках и цыганских длиннополых складчатых юбках переговаривались гортанными голосами. В черных лакированных автомобилях ехали добродушные полноликие господа в белоснежных рубашках-апаш. Их пухлые портфели лежали на задних сиденьях. Стройные, как чинары, тбилисские девушки сопровождали горделивых матрон, пустившихся в обход магазинов. Тбилиси просыпался, залитый солнечным светом и переполненный пением птиц, свистками регулировщиков и сумасшедшими сиренами автомобилей, которые, как горные козлы, лоб в лоб, сходились на перекрестках.
Я разыскал район Сабуртало. Отсюда начиналась Военно-Грузинская дорога. По ней прошли солдаты Российской империи на покорение мусульманского Кавказа. Мне надо было найти Институт вакцин и сывороток по адресу: Военно-Грузинская дорога дом номер 3. По какой стороне будет номер 3, решить было невозможно, потому что в Тбилиси все номера домов шли от некоего символического центра. Может быть, от Метехской церкви? Справа от Военно-Грузинской дороги вниз к реке спускался кипарисовый парк, отделенный от дороги чугунной оградой. Река, которая внизу омывала парк, называлась Курой. «Кури — кури — кура…» Или казалось, что омывала. Я не мог видеть прибрежной части парка, но знал, что там — Кура. Река как бы ограничивала прыжок кипарисов куда-то вдаль, на холмы и горы, покрытые фиолетовой дымкой. Слева от Военно-Грузинской дороги шли крутые скалистые склоны, на верху которых стояли деревенские домики, окруженные садами, виноградниками и хозяйственными пристройками. От домиков вниз к реке вели ксилофоны деревянных ступенек. Ступеньки эти звякали и стукали в лад блеянию коз, хрюканью поросят и кукареканью петухов. Домики стояли высоко и были укрыты густой листвой. Так что разглядеть номера было невозможно. Пожалуй, номера здесь и не навешивали. Соседи и почтальоны знали, чей дом. А чужие наведывались редко. Я не решился подняться вверх, боясь злобных лохматых псов. Поэтому я рассудил, что пойду вдоль ограды, окружающей кипарисовый парк. Наверняка, это была территория Института вакцин и сывороток. Минут через семь чугунная ограда прервалась чугунными же на бетонных опорах воротами. Но это оказались слепые ворота, петли и замки которых давным-давно проржавели и гноились, как оспенные. Я двинулся дальше. Вдруг в изъяне ограды (совершенно неожиданный трюк охранной службы!) оказалась превосходная новенькая проходная. Домик со стеклянными дверями был виден насквозь: калитка-вертушка и вахтер в своем синем френче и синей фуражке с зеленым околышем, молоденькая дежурная в синей гимнастерке с журналом для выписывания пропусков и забавный человечек в коричневом свитере и с громадной (не по росту!) кожаной папкой под мышкой. Кинокамера в гарнитолевом футляре стояла в кузове грузовичка. Далее следовали еще одни ворота, вероятно, предназначенные для автомобильного или гужевого транспорта. Вахтеру полагалось следить за воротами (транспортом) и вертушкой (сотрудниками, посетителями). Делать это одновременно вахтер не хотел. Ворота оставались открытыми, вертушка крутилась, как ветряк. Девушка из бюро пропусков усердно заполняла большой лист бумаги, сверяя свои записи с паспортами, пирамида которых высилась перед ней. Сквозь аквариум проходной я видел горку паспортов. Да, это был Институт бактериофага, переименованный в Институт вакцин и сывороток, о чем гласила вывеска на воротах и адрес: Военно-Грузинская дорога, дом номер 3. Перед воротами стояли люди, одетые весьма затейливо. Старая женщина во всем черном (черный платок, черное платье, черные чулки, черные туфли) стояла рядом с юношей, одетом в поношенную бурку. С ними была грузинская красавица. На голове юноши лепилась серая войлочная шапочка, разделенная на четыре сектора полосками черного шнурка. Юная грузинка была в полотняном сарафане, расшитом красным орнаментом. У самых ворот стояли господин и госпожа, одетые изысканно. Он — в парадный сюртук, соломенную шляпу-канотье и пенсне на шнурке. Она — в длинное платье с кружевными оборками и шляпу с вуалеткой. Рядом с этим господином скучал молодой субъект в спортивной куртке цвета хаки, гольфах и альпинистских ботинках. В руках у молодого скучающего субъекта был альпеншток. По другую сторону от альпиниста стояла молоденькая блондинка, одетая очень современно. Но самым смешным и неожиданным для меня персонажем оказался ослик. Он был центром внимания и всеобщим любимцем этой труппы актеров (так оказалось). Каждый из ожидавших подходил к ослику, чесал у него между ушами, давал ему кусочек сахара или хлеба, приговаривая: «Жак, потерпи немного! Жак, скоро выпишут пропуск!»
Или что-то в этом духе, что я, не зная грузинского, мог вообразить.
Я встал в очередь вслед за невысоким человеком, весьма раскованным и общительным. Моментально он рассказал мне, что затейливо одетые люди — это съемочная группа из киностудии «Иверия-фильм», что он режиссер-постановщик Таберидзе, который снимает кинокомедию «Телега без колес». Девушка из бюро пропусков вернула актерам паспорта и большой лист бумаги — общий пропуск. Режиссер стал громко объяснять актерам и мне, что нужно получить еще одну важную бумагу и тогда можно начинать съемку. «Дело в том, — сказал мне Таберидзе, — что очередной эпизод фильма происходит во дворе французского консульства. А единственное здание, подходящее для этой цели, это французский коттедж, построенный в тридцатые годы на территории Института Бактериофага для профессоров Георгия Элиавы и Феликса д’Эрелля». «Для кого?» — спросил я потрясенный. «Для Георгия Элиавы и Феликса д’Эрелля, — повторил Таберидзе. — Вы слышали о них?» «Немного», — ответил я. «Но вся петрушенция в том, что после внезапного возвращения д’Эрелля в Париж и расстрела Элиавы французский коттедж перешел в ведение некого комитета, разрешения которого на съемку мы теперь ждем, — печально сказал Таберидзе. — И добавил: Знаете пословицу? Сначала по-грузински: тагвма тхара, тхарао — ката гамотхарао. Переведу на русский: мышка рылась, рылась — до кошки дорылась».
Я получил пропуск в лабораторию Е. Г. Макашвили и попрощался с режиссером и актерами. Каким-то образом в моей сумке оказалось несколько листков с машинописным текстом.
«ТЕЛЕГА БЕЗ КОЛЕС» кинорассказВ горной сванской деревне жила вдова. У нее была красавица дочь Манана девятнадцати лет и двадцатилетний сын Вахтанг. Дело было в 1911 году. В это же время в Тифлисе (Тбилиси) жила семья французского консула. Сын консула, двадцатилетний Жак, был повеса, картежник и отчаянный скалолаз. Учтите, что альпинизм только зарождался в те времена. Итак, в сванской горной деревне жила семья бедной вдовы.
В Тифлисе — семья французского консула. Появилась зацепка для интриги.
Чтобы продвинуть сюжет и потренироваться в скалолазании, французский плейбой отправился в Сванетию. Он покорил одну за другой неприступные скалы, начисто позабыв о покоренных им до этого тифлисских красотках, которых так живописно изобразил на своих картинах несравненный Нико Пиросманишвили. В особенности, актрису Маргариту, тоже француженку. Однажды Жак увидел сванский дом-башню, приняв его за диковинный гибрид скалы и средневекового замка. Это было на рассвете, когда все жители деревни, включая дворовых псов, мирно спали. Мирно спали в своих родовых башнях-замках, каждый на своем этаже, строго предопределенном в соответствии с полом, возрастом и положением в семье. В боковушке безмятежно спала несравненная Манана. Стоит ли описывать ее красоту? Тростинка с лицом лотоса — такое сравнение может отдаленно напоминать о красоте Мананы. Жак, естественно, ничего не знал ни о Манане, ни о сванских обычаях. С самыми спортивными намерениями Жак начал осуществлять подъем по вертикальной стене. Как раз в этот момент Манане снился дивный сон: Георгий Победоносец находит ее в башне, выносит из замка, сажает впереди себя на коня и, целуя в шею и нашептывая любовные слова, мчится с Мананой вдаль. Все было прекрасно в этом сне, кроме одной детали: морда рыцарского коня была точь в точь похожа на голову их единственного ослика. Эта деталь заставила Манану на минуту оторваться от сна, открыть глаза и («О, Боже!») увидеть, как в окно влезает сначала чья-то рука, потом нога, обутая в ботинок на шипах, а затем (Манана от страха и любопытства не могла даже вскрикнуть!) — появляется молодой горожанин с веселым лицом, украшенным тоненькими задорными усиками. Сначала Манана подумала, что это продолжение сна с участием святого Георгия («Чего же бояться, если это дивный сон!?»), потом сообразила, что она уже не спит, и следует позвать родных на помощь. Но незнакомец так мило улыбался, подкручивая свои усики, что звать на помощь было просто глупо. Никакой помощи не требовалось. Он сказал по-грузински, что он француз из Тифлиса. Манана ни слова не знала по-французски. Жак с трудом изъяснялся на грузинском языке. Сванское наречие, формировавшееся в сурдокамере кавказских гор, с трудом разбирают даже представители других грузинских племен. Тем не менее, Манана и Жак отлично понимали друг друга, еще раз подтвердив, что у любви — единый язык. Когда мать пришла будить Манану, она увидела в постели мирный сон двух возлюбленных. Складывалась трагикомическая ситуация. Соблазненная Манана и поруганная честь рода были налицо. Но соблазнитель не собирался скрываться, а тем более умыкать невесту. Мудрая мать решила не спугивать перепелку, иначе говоря, не будить новоявленных Адама и Еву, а побежала к сыну и рассказала ему о первородном грехе Мананы. Они вернулись в боковушку и связали соблазнителя. Жак проснулся и увидел, что он оплетен веревками, как Гулливер у лилипутов. Разбуженная Манана была уведена в другое помещение и заперта до лучших времен. Плач Мананы разбудил старика — патриарха рода. Жак, приведенный к патриарху, искренне рассказал ему о том, как он самым невинным образом, не замышляя ничего другого, кроме скалолазания, оказался в спальне Мананы. Его ломаный грузинский язык усиливал эффект правдивости рассказа. Раз произошло такое, он с готовностью предлагает Манане руку и сердце. Привели Манану. Сговор состоялся. Но свадьба не могла быть без согласия родителей Жака, которые жили во французском консульстве в Тифлисе. И тут-то в сюжет вступает новый персонаж — ослик, которому был доверена честь везти в Тифлис связанного жениха Мананы. Следует заметить, что у сванов не используются ни колесные телеги, ни арбы. Горы и ущелья научили это западно-грузинское племя приспособиться к телегам без колес, вроде русских саней. Вот в такую телегу без колес и положили связанного Жака, впрягли ослика и стали спускаться по направлению к Тифлису, что красуется в сердце земли Картли. Долгим был их путь. Мать и сын шагали рядом с осликом, который покорно тащил связанного Жака. Так долго они добирались до Тифлиса, что ослик начал откликаться на имя Жак. Ведь все трое: ослик, француз Жак и телега без колес стали одним целым. В конце концов они прибыли в Тифлис. Мать, сын, Жак-француз, ослик Жак и телега без колес. Вполне понятно, что сразу же они двинулись по улицам Тифлиса во французское консульство. Это был коттедж, построенный на две семьи: консула и его помощника. Семья помощника была в отпуске в Париже, а вторую половину временно занимал кузен французского консула и его очаровательная дочка, которые приехали из Монреаля. Ясно, что дочка кузена предназначалась для нашего альпиниста Жака. Именно тогда ослик Жак сыграл главную роль (не как актер кино, а как друг Мананы), предоставив свою шерстистую спину в полное распоряжение канадо-француженке Жаклин. Она каталась верхом, а Вахтанг (брат Мананы) присматривал за осликом и влюблялся в голубоглазую блондинку из Монреаля. Все эти события происходили в парке, окружающем французское консульство. Вполне понятно, что счастливый конец сценария отвечал надеждам возлюбленных: Жак/Манана и Вахтанг/Жаклин.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Охота на рыжего дьявола. Роман с микробиологами"
Книги похожие на "Охота на рыжего дьявола. Роман с микробиологами" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Давид Шраер-Петров - Охота на рыжего дьявола. Роман с микробиологами"
Отзывы читателей о книге "Охота на рыжего дьявола. Роман с микробиологами", комментарии и мнения людей о произведении.