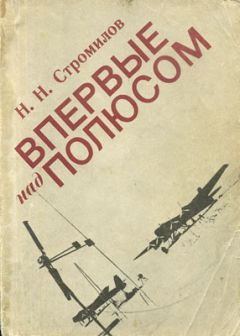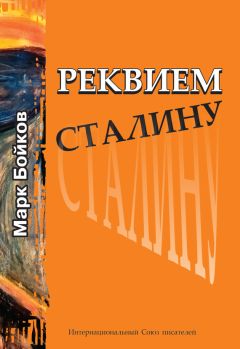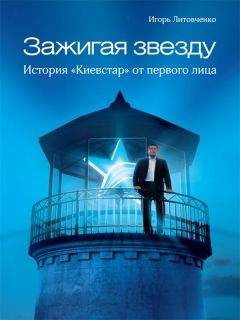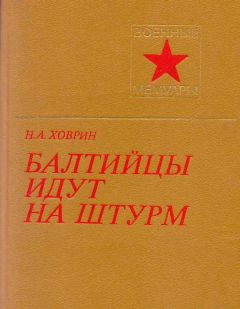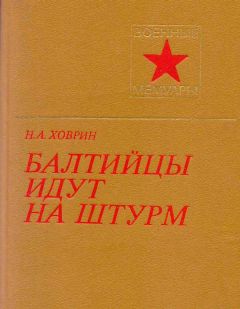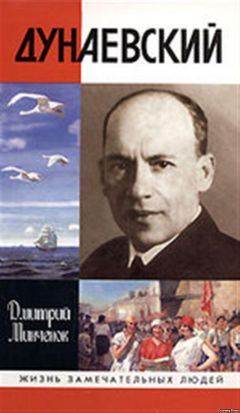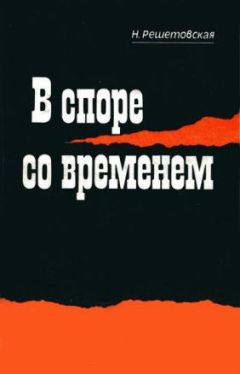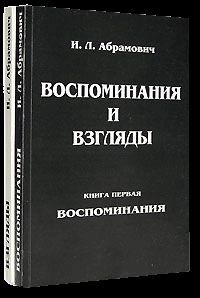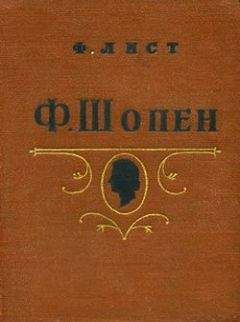Игорь Дьяконов - Книга воспоминаний

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Книга воспоминаний"
Описание и краткое содержание "Книга воспоминаний" читать бесплатно онлайн.
"Книга воспоминаний" известного русского востоковеда, ученого-историка, специалиста по шумерской, ассирийской и семитской культуре и языкам Игоря Михайловича Дьяконова вышла за четыре года до его смерти, последовавшей в 1999 году.
Книга написана, как можно судить из текста, в три приема. Незадолго до публикации (1995) автором дописана наиболее краткая – Последняя глава (ее объем всего 15 стр.), в которой приводится только беглый перечень послевоенных событий, – тогда как основные работы, собственно и сделавшие имя Дьяконова известным во всем мире, именно были осуществлены им в эти послевоенные десятилетия. Тут можно видеть определенный парадокс. Но можно и особый умысел автора. – Ведь эта его книга, в отличие от других, посвящена прежде всего ранним воспоминаниям, уходящему прошлому, которое и нуждается в воссоздании. Не заслуживает специального внимания в ней (или его достойно, но во вторую очередь) то, что и так уже получило какое-то отражение, например, в трудах ученого, в работах того научного сообщества, к которому Дьяконов безусловно принадлежит. На момент написания последней главы автор стоит на пороге восьмидесятилетия – эту главу он считает, по-видимому, наименее значимой в своей книге, – а сам принцип отбора фактов, тут обозначенный, как представляется, остается тем же:
“Эта глава написана через много лет после остальных и несколько иначе, чем они. Она содержит события моей жизни как ученого и члена русского общества; более личные моменты моей биографии – а среди них были и плачевные и радостные, сыгравшие большую роль в истории моей души, – почти все опущены, если они, кроме меня самого лично, касаются тех, кто еще был в живых, когда я писал эту последнюю главу”
Выражаем искреннюю благодарность за разрешение электронной публикаци — вдове И.М.Дьяконова Нине Яковлевне Дьяконовой и за помощь и консультации — Ольге Александровне Смирницкой.
Наконец у нас решили, что нужно завести свой агитминомст. Впервые его сделали на Кандалакшском направлении. Клсйнерман обратился к командиру дивизии с просьбой, чтобы его люди изготовили миномет. Сделать это было легко, так как в каждой дивизии были мастера на все руки. Выделили двоих, одному поручили сделать миномет, другому мины. Откомандированный по этому делу водопроводчик и слесарь из рядовых приехал в полупустую после эвакуации Кандалакшу и там отрезал кусок подходящей для ствола фановой трубы, приделал днище со штырем, который спускает мину, и все готово. Для изготовления самой мины бралась американская банка из-под тушенки, из тех, что шли к нам из Штатов через Мурманск. Они были из тонкой желтой жести, легко вскрывающейся, в отличие от наших консервных банок, требующих впятеро больше металла и титанических усилий при открывании. В такие банки (размером со стеклянную литровую) набивалось довольно много листовок. Головка мины делалась из дерева на токарном станке. Мы шутили: переброска такой мины достигает двойной цели: во-первых, немцы читают наши листовки, во-вторых, они видят, что союзники нам помогают.
Наряду с нашей редакцией существовала такая же финская. Существование ее было гораздо более целесообразно. Во главе ее стоял, как я уже говорил, очень умный человек, полковник Лехен, старый работник Коминтерна, участник испанской войны. Он прекрасно говорил по-испански, по-немецки, по-фински и по-русски. Сотрудниками у него были исключительно финны. Это были политэмигранты-коммунисты, уцелевшие несмотря на 1937 год. Все они жили в России по 10–20 лет, но почти ни слова не говорили по-русски. Зато финский дух и психику они понимали великолепно и выпускали газету, полную народного юмора, интересную, которая, наверное, оказывала определенное влияние на финнов. Эта война была у них непопулярна. Если в финскую войну они дрались активно и даже отчаянно, потому что защищали свою родину, то в этой участвовать не хотели, считая, что их в это дело втравили немцы. Наши офицеры-финны, которым, так же как Клейнерману, приходилось ездить на фронт со своей газетой (на те направления, где против нас стояли финские части), каждый раз попадали под арест как шпионы, так как в поисках нужной части или на обратном пути ни слова не могли выговорить по-русски. В конце концов меня приставили к ним преподавать русский язык. Я не знал, с чего начать учить людей, которые по 20 лет прожили в России и не знали языка. Я начал учить их фонетике. Они не умели различать «с», «з», «ш», «ж», «ч», «щ» — для них это все была одна «буква», по-фински называвшаяся «эссе». Когда я диктовал слово вроде «жаровня», то один наклонялся к другому и шептал. «Это то эссе, которое сук?» (имея в виду «жук»). Эти седовласые люди трогательно списывали друг с друга. Однажды, когда я задал им составить фразу со словом, содержащим звук «ж», они все как один написали «утка плавает лусайка».
Третья, на самом деле важная часть нашей работы — это было изучение противника. Источниками информации были прежде всего пленные и перебежчики. Первое время перебежчиков не было, потом они начали понемногу появляться. Кроме того, источником были письма, которые шли к нам почти непрерывно. Дело в том, что немецкие солдаты их хранили и часто нумеровали. Письма забирали из карманов пленных и убитых. Иногда наши разведчики попадали в расположение немецких войск и там брали письма. Читая их, можно было представить себе немецкие нравы и понятия. Особенно мне запомнилась одна женщина, от которой хранилось довольно много писем. Звали ее Хильдегард Хан, до сих пор помню ее фамилию. Она писала 22 июня 1941 г. своему мужу: «Фюрер в своей глубокой премудрости наконец-то объявил войну России. Можно надеяться, что скоро мы сможем начать завоевывать Португалию!» Она писала многое в таком духе, но все это через тупую цензуру проходило. Позже, ближе к 1943 г., мне в руки попал дневник антифашиста, молоденького солдата-интеллигента, который был против войны из религиозных соображений.
Но большинство писем было стандартно и не представляло интереса. Начинались они одинаково, шли ли они на фронт или с фронта: «Meine lb. NN (или Mein lb. NN, сокращенно вместо Hebe или lieber), bin noch gesund, was auch hoff endlich bei dir der Fall ist» (всегда hoff endlich вместо hoff entlich): «Моя дорогая (мой дорогой) NN, я еще здоров, что, надеюсь, и с тобой имеет место».
Кроме писем, разведчики доставали довольно много газет. Мы почти регулярно читали «Volkischer Beobachter» — главную нацистскую партийную газету, а также «Das Reich», — вроде нашей «Литературки», геббельсовскую. Более интересна была буржуазная «Frankfurter Allgemeine», печатавшая речи Гитлера петитом на последней странице и объявления типа: «Предприятие А. объявляет, что его основной капитал с 1 января будет не 500 тыс. марок, а 1.500 тыс. марок». Дело в том, что нацисты провели закон, ограничивающий «военные прибыли» — тремя или, помнится, пятью процентами с капитала. Но разрешалось сообщать об увеличении капитала, что сразу могло увеличить прибыль втрое.
Вообще нацистский социализм был прелюбопытная штуковина, но здесь не хочется об этом рассказывать.
Попадались и книги, чаще всего «Майн Кампф» (обладать которой вменялось всем немцам как бы в обязанность), «Миф XX века» Альфреда Розенберга и совершенно вонючая и густая вонь «профсоюзного» вождя Лея.
Все это мы читали и изучали. Это давало нам некоторую картину внутренней жизни нацистской Германии, но больше всего давали нам пленные, особенно материала для нашей внутренней пропаганды.
Я создал два опуса — один был очерком социально-экономического устройства нацистской Германии (он ушел в Москву под грифом «Совершенно секретно»), другой был сочинением листов на восемь, если не больше, который назывался у нас «Энциклопедия Штейнманниана». Это все было получено от немецкого офицера Штейнманна. О нем будет особый разговор. Все полученные нами данные и материалы шли в Главное политуправление Красной армии. Кое-что несомненно использовалось. Иногда мы встречали наш материал в статьях Эренбурга. Так, от Штейнманна исходил рассказ об одном немце, который имел трудности с поступлением в училище из-за того, что у него была неправильная, с расовой точки зрения, форма подбородка.
Собираемая нами информация позволяла довольно подробно описать состояние экономики, идеологической работы в немецком тылу и в армии, что могло принести большую пользу. Возможно, все это оставалось без внимания, как в свое время остались даже такие важные сообщения, как собранные Зорге. Так, по крайней мере, думала Минна Исаевна (хотя о Зорге мы тогда, конечно, ничего не знали).[288]
С середины 1942 г. для 7-х отделов начал выходить «закрытый» журнал, где публиковались материалы, собранные на разных фронтах. Была одна страшная запись опроса какого-то немца, который рассказывал, как у них работали уборщицами еврейские девушки как раз в тот момент, когда рядом уничтожали их родное местечко и оттуда был слышен стрекот пулеметов Жутко.
(В том же журнале уже в 1943 г. было напечатано четыре отчета переводчиков 7-х отделов из всех армий о технике политических опросов Так случилось, что три из них были с нашего фронта — Эткинда, Касаткина и мой. У нас у всех были в этом деле свои амплуа: Фима вел опрос там, где были нужны находчивость и хитроумие, Шура специализировался на опросе идиотов, а я — интеллигентов).
События зимы и ранней весны 1942 года были в нашем захолустье мало интересны. Но чтобы передать впечатления о времени, надо рассказать и о них.
Работали мы порывами. Иногда приходило много писем или появлялось несколько пленных, тогда время работы не ограничивалось. На выпуске газеты были заняты только те, кто к этому имел отношение, остальные освобождались в 5–6 часов и вечером делали кто что хотел. Я шел в оперетту или просто гулял. Прогуливаясь с Фимой, мы, между прочим, обсуждали вопрос о том, можно ли наше государство считать социалистическим,[289] и я помню, что как раз когда Фима выступал с очень политически невыдержанной речью, я поднял глаза и обнаружил, что мы стоим под самым балконом дома, где помещалась наша госбезопасность. Я шепнул ему: «Самос подходящее место для таких разговоров», и увел его.
Как-то я сказал одному беломорскому другу, что, по-моему, наш социализм должен после войны стать каким-то иным, но он возразил мне:
— Какой социализм? У нас государственный капитализм.
К нему стоило прислушаться, — он был человек с хорошим историческим и экономическим образованием и очень умный. Все это не помешало ему очень скоро вступить в партию. Он был весьма честолюбив и мечтал стать дипломатом. И стал бы, причем отличным, если бы не нагрянувшая в конце и после войны волна антисемитизма.
Были и развлечения.
Больше всего у нас и повсюду было разговоров не о политике (тут легко было смертельно обжечься), а о женщинах."Это была центральная тема, и чем дольше шла война, тем эта тема была острее. Немцы давали каждому военнослужащему отпуск на родину через каждые одиннадцать месяцев — у нас отпусков не было. Обсуждали, ждут ли жены или уже давно изменили, или просто предавались воспоминаниям о разных любовных эпизодах — с женами и не с женами. Такие разговоры шли без конца, но больше всего потрясал поэт Александр Коваленков из газеты «В бой за Родину». Наши мужчины с упоением слушали его рассказы о коллективных оргиях, в которых он принимал (или якобы принимал) участие, когда на несколько минут тушился свет и нужно было успеть переспать с ближайшей соседкой, о преимуществах того, чтобы спать сразу с двумя женщинами, а не с одной, об анатомических особенностях китайцев и японок. Все слушали с затаенным дыханием, потом бурно участвовали в этих обсуждениях, ведшихся на полнокровном русском языке. Я в тс годы считал для себя всякую похабщину абсолютно запретной, а любовь — вещью слишком серьезной, чтобы ее обсуждать. Поэтому всегда молчал, вызывая насмешки Розанова и других (молчал, впрочем, и Фима). Но, молча, я слушал и мысленно производил лексическую классификацию, как языковед.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Книга воспоминаний"
Книги похожие на "Книга воспоминаний" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Игорь Дьяконов - Книга воспоминаний"
Отзывы читателей о книге "Книга воспоминаний", комментарии и мнения людей о произведении.