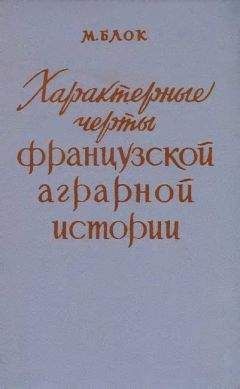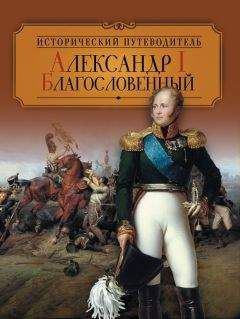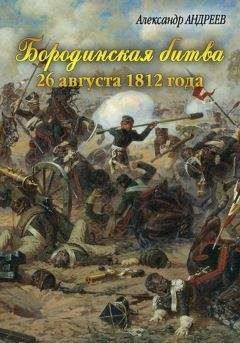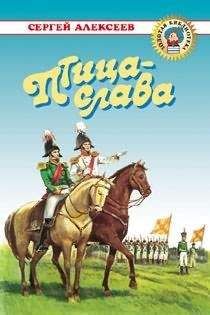Адам Замойский - 1812. Фатальный марш на Москву
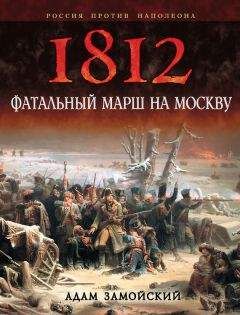
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "1812. Фатальный марш на Москву"
Описание и краткое содержание "1812. Фатальный марш на Москву" читать бесплатно онлайн.
«Работа настолько великолепна, что, начав читать, никак невозможно оторваться от книги… Изящный стиль и манера рассказчика, смелый пересмотр сложившихся стереотипов и рассказ о тяжелейших страданиях людей… Прочитайте книгу, и вы почувствуете себя так, будто прошагали с солдатами Наполеона весь путь до Москвы и обратно…»
Все это цитаты из иностранных периодических изданий, по достоинству оценивших предлагаемую ныне вниманию российского читателя работу А. Замойского «1812. Фатальный марш на Москву».
На суд отечественного читателя предлагается перевод знаменитой и переизданной множество раз книги, ставшей бестселлером научной исторической литературы. Известный американский военный историк, Адам Замойский сумел, используя массу уникального и зачастую малоизвестного материала на французском, немецком, польском, русском и итальянском языках, создать грандиозное, объективное и исторически достоверное повествование о памятной войне 1812 года, позволяя взглянуть на казалось бы давно известные факты истории совершенно с иной стороны и ощутить весь трагизм и глубину человеческих страданий, которыми сопровождается любая война и которые достигли, казалось бы, немыслимых пределов в ходе той кампании, отдаленной от нас уже двумя столетиями.
Добавить, пожалуй, нечего, кроме разве что одного: любой, кто не читал этой книги, знает о французском вторжении в Россию мало – ничтожно мало. Посему она, несомненно, будет интересна любому читателю – как специалисту, так и новичку в теме.
Ветераны переполнялись гордостью, чувствуя, что император ценит их и помнит, к тому же ощущали дыхание почтительной зависти молодежи вокруг. С молодыми солдатами Наполеон беседовал по-отечески. Интересовался, досыта ли их кормят, хороша ли амуниция, иногда просил показать содержимое ранцев и заводил непринужденный разговор. Все знали, что он частенько пробовал солдатское варево и хлеб, когда посещал походные кухни, а потому у бойцов не было основания сомневаться в искренности его интереса к ним.
В ходе смотра незадолго до начала похода Наполеон как-то остановился около лейтенанта Калоссо, уроженца Пьемонта, служившего в 24-м конно-егерском полку, и сказал ему несколько слов. «Прежде я восхищался Наполеоном, как восхищалась им вся армия, – писал тот. – С того же дня готов был отдать за него жизнь с фанатизмом, не уменьшившимся с годами. Огорчало меня лишь то, что у меня всего одна жизнь, которую я могу отдать на службу ему». Такое поклонение вовсе не было чем-то особенно редким и не ограничивалось рамками национальной принадлежности. Но Наполеон не мог находиться всюду, и чем больше была армия, тем реже видели его в частях{105}.
Решимость Наполеона собрать огромную армию грозила неминуемо отразиться на общем ее качестве. Инженерный полковник барон Луи-Франсуа Лежён, адъютант маршала Бертье, получил задание инспектировать войска, уже стоявшие на Одере и Висле в марте 1812 г., и был буквально засыпан жалобами командиров о негодности к службе половины поступавших в части новобранцев.
Лежён поделился информацией с генералом Дежаном, занимавшимся организацией кавалерийских формирований в данном регионе. Дежан со своей стороны признался, что треть присланных ему лошадей слишком слабы для несения полагающейся ноши, в то время как около половины всадников чересчур малы и не в состоянии орудовать саблей. «Меня вовсе не радовало, как формируется кавалерия, – вторил ему полковник Альбер-Арман-Робер де Сен-Шаман, командовавший 7-м конно-егерским полком, – Молодые новобранцы, которых прислали из депо во Франции, даже не научив управлять конем и выполнять обязанности всадника на марше или в походе, по прибытии в Ганновер восседали на замечательных лошадях, заботиться о каковых не умели».
В результате к моменту их вступления в Берлин большинство лошадей хромали или страдали от натертых спин под седлом, вызванных неправильной посадкой солдат или же отсутствием у них сноровки и способности должным образом оседлать коня. Не один и не два офицера отмечали, что новобранцев не научили проверять, не трет ли коню седло или вовремя распознавать начало образования потертостей{106}.
Сержант[37] Огюст Тирион из 2-го кирасирского полка придерживался иного, куда более высокого, мнения относительно качества кавалерийских частей, выступивших в поход против России. «Такой прекрасной кавалерии никто прежде не видывал, никогда ранее в полках не бывало столь замечательного состава и у всадников – таких дивных коней», – писал он, добавляя, что неспешный переход через Германию закалил лошадей и солдат. Но кирасирские полки являлись элитой французской кавалерии. Хорошие же лошади сами по себе могли представлять сложность, если верить артиллерийскому офицеру Антуану-Огюстену Пьону де Лошу[38]. «Наши расчеты были наилучшими, снаряжение – другого и не пожелаешь, но все сходились на том, что лошади на деле слишком высоки и чересчур сильного сложения и непривычны к нужде и к нехватке хорошего корма», – писал он после выступления из депо в Ла-Фере 2 марта 1812 г.{107}
Наполеона не особенно беспокоило подобное положение дел. «Если я вывожу в поход 40 000 верховых, то прекрасно понимаю, что не могу надеяться получить такое же количество добрых всадников, но я оказываю давление на моральных дух неприятеля, каковой знает от соглядатаев, из слухов или из газет о том, что у меня есть 40 000 кавалерии, – ответил он Дежану, ознакомившись с его донесениями о состоянии дел с конницей. – Раз за разом, от одного к другому люди будут скорее раздувать, нежели умалять численность моих полков, репутация которых отлично известна. В день же, когда я дам старт походу, впереди меня будет следовать психологическая сила, каковая умножит фактически собранную мной»{108}.
Самым главным преимуществом французской армии являлся факт принадлежности всех ее военнослужащих, даже самого низкого ранга, к числу свободных граждан, получивших особо патриотическое образование в бесплатных школах.
Они могли не только сражаться, но и думать, и если проявляли инициативу и отвагу, имели все основания рассчитывать на продвижение по службе и на шанс подняться очень и очень высоко. Однако обычай Наполеона награждать повышением исключительно за храбрость приводил к выдвижению в командиры частей порой людей недостаточно для того компетентных. «Среди генералов, быстро доросших до таких высот, – писал Карл фон Функ, – находилось совсем немного тех, кто обладали даром хороших военачальников. Многим не хватало даже самых элементарных военных знаний… В безумии отваги они научились только вести вперед своих неустрашимых бойцов на врага, но и понятия не имели о том, как оценить преимущества и недостатки позиции, не ведали и первых оперативных принципов того, как должно отступать в порядке, коли первый приступ не удался…» Кроме всего прочего в армии присутствовало полным-полно молодых офицеров из парижской jeunesse dorée (золотой молодежи), получивших повышение за счет выгодных знакомств. Они особенно охотно шли в кавалерийские полки, поскольку любили красивую форму, или в штаб, надеясь оказаться поближе к Наполеону. Многие, совершенно очевидно, не подходили для избранной профессии{109}.
Революционное рвение, питавшее воодушевлением французские армии 1790-х и начала 1800-х годов, к 1812 г. в значительной мере угасло. «По мере того, как форма все больше покрывалась шитьем, сердца под ней становились все менее благородными», – заметил один из современников. Наполеон и сам чувствовал недостаток воодушевления в отношении предстоящей кампании. «Люди всегда охотно шли за ним, и он удивлен, что они не готовы закончить свою карьеру с той же энергией, с какой начинали», – отмечал секретарь императора французов, барон Фэн{110}. Но именно сам великий воитель превратил командиров в то, чем они стали.
По словам генерала Бертезена: «С момента прихода Наполеона к власти военные обычаи быстро менялись, союз сердец исчезал вместе с бедностью, а вкус к материальным благам и комфортабельной жизни пробирался в лагеря, где обретались лишние рты и было слишком много повозок. Забывая о счастливом опыте своих бессмертных походов в Италию, об огромном превосходстве, даримом привычкой к лишениям и презрением к излишествам, император верил, будто потакание такой испорченности сослужит ему добрую службу»{111}.
Он пожаловал маршалам и генералам громкие дворянские титулы, земли и пенсии по цивильному листу. Требовал от них содержания дворцов в Париже, где им надлежало давать балы и приемы сообразного положению уровня. Будучи членами придворного круга, они обязывались окружать себя сверкающей свитой, как все больше поступал сам император французов. Светская жизнь расслабляла их, они все с меньшей охотой оставляли мягкие постели и прекрасные дворцы в модных районах Парижа, не говоря уже о женах и любовницах, чтобы отказаться от всего этого ради бивачной жизни и превратностей войны. И особенно верно данное замечание в отношении маршалов.
«Большинство из них было в возрасте от тридцати пяти до сорока пяти лет, когда после бурной юности мужчина начинает искать домашней жизни и оседлости, – писал фон Функ. – Им вряд ли стоило ожидать достигнуть большей славы, но у них всегда оставался риск подвергнуть опасности заслуженную репутацию». Хорошим примером мог служить начальник штаба Наполеона, маршал Бертье, князь Нёвшательский, полный человек сложившихся вкусов, имевший в свои пятьдесят восемь лет великолепный удел и обожаемую им и обожавшую его любовницу в Париже{112}.
В то же самое время щедрые дары, полученные отличившимися в сражениях, служили невыносимым соблазном для солдат и офицеров вплоть до генерала, все из которых видели в войне возможность сколотить состояние. Простой воин имел шанс получить повышение, гарантировавшее лучшее жалование и статус, или же удостоиться кавалерского креста Почетного легиона, дававшего право на пенсию. Генерал мог рассчитывать добыть вожделенный маршальский жезл, означавший славу, богатство, да еще и герцогский титул в придачу.
Существовала к тому же и благоприятная возможность подзаработать на стороне за счет более или менее законного способа овладения ценными предметами. Грабежи не поощрялись, но в ходе кампании в далеких землях нередко возникал шанс приобретать вещи по бросовым ценам и привозить их домой, не платя никаких пошлин и налогов. Ценности, обнаруженные на поле битвы или во вражеском лагере, являлись законной добычей, как и все оказавшееся бесхозным в ходе военных действий. Поскольку готовился последний поход, призванный закончить все кампании, очень многие начинали понимать, что у них остается последняя возможность разбогатеть.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "1812. Фатальный марш на Москву"
Книги похожие на "1812. Фатальный марш на Москву" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Адам Замойский - 1812. Фатальный марш на Москву"
Отзывы читателей о книге "1812. Фатальный марш на Москву", комментарии и мнения людей о произведении.