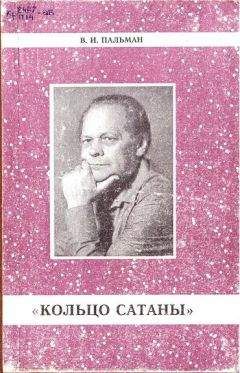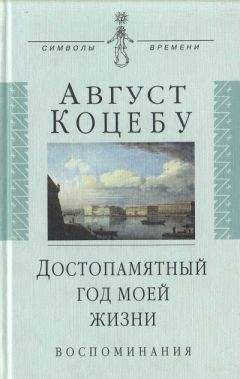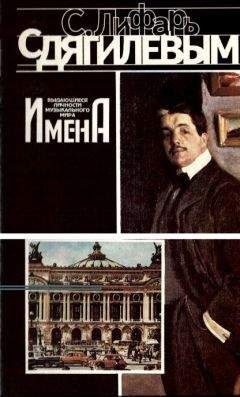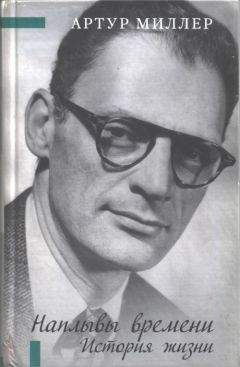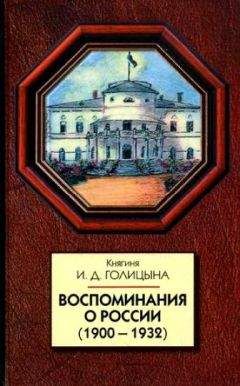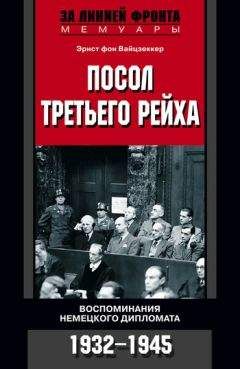Зиновий Каневский - Жить для возвращения
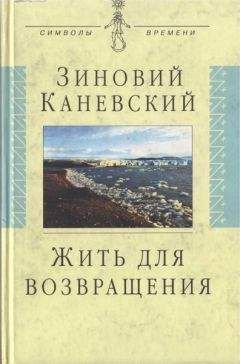
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Жить для возвращения"
Описание и краткое содержание "Жить для возвращения" читать бесплатно онлайн.
Посмертная книга Зиновия Каневского (1932–1996) — это его воспоминания о жизни, о времени, в котором он жил, о людях, с которыми встречался, о трагедии, произошедшей с ним в Арктике, и о том, как ему, инвалиду без обеих рук, удалось найти свой новый путь в жизни.
Первая часть написана в форме повести и представляет собой законченное произведение. Вторая часть составлена из дневниковых записей и литературных заготовок, которые он не успел завершить.
Я призвал в виде скорой помощи свою добрую знакомую по Географическому обществу Валю Шацкую. Валентина Дмитриевна, инженер-энергетик по профессии, была выдающейся полярной путешественницей, в том числе и путешественницей-одиночницей: в полярную ночь прошла, например, несколько сот километров по Большеземельской тундре, искусно обойдя стороной все погранзаставы этой запретной зоны! Дважды в год правдами и неправдами, манкируя основной работой (а она давно уже перешла из инженеров в прачки-уборщицы-вахтеры-лифтеры, чтобы получить свободу рук, точнее — ног, обутых в лыжные крепления), Валя устремлялась в Арктику, одна, либо сколотив небольшую группу смельчаков-единомышленников обоего пола. Вот к ней я и бросился с просьбой образумить взбунтовавшееся чадо.
Валя поняла меня мгновенно, заметив, что передо мною к ней уже обращались друзья с аналогичными заботами. И в ответ на мои стенания бросила свое знаменитое:
— А, дерьма-то! Справимся с вашим Мишкой, не таких видывали. («А, дерьма-то!» служило ей как бы пожизненным рефреном. Так реагировала она на болтовню о правителях, о ценах, о домике-развалюхе на станции Апрелевка, где она проживала вдвоем с кошкой… Я не отказал себе в удовольствии ответить однажды на ее вопрос о Мишке именно так: «Господи, дерьма-то!», и мне, к моему несказанному удовольствию, было произнесено ею серьезно и с достоинством: «Уж не гневите Всевышнего, ваш Миша совсем не дерьмо!»)
Словом, накануне начала последнего школьного учебного года наше дитятко отбыло с Валей и группой таких же, как он, оболтусов в десятидневный пеший маршрут по тундрам и горам Полярного Урала и возвратилось преображенным. Исчезли всякие разговоры о «вшивой интеллигенции», начали стихать магаданские угрозы, хотя по-прежнему звучала заунывная тема о том, что учиться в институте не так уж и обязательно. Мы произносили слово «армия», он нагло заявлял, что совсем не против «прошвырнуться» в Афганистан, там горы с ледниками, не хуже кавказских… Поскольку советское вторжение туда только-только произошло и ни единого слова о кровавых боях и потерях еще долго не было произнесено властями, Мишкина наглость не выглядела такой уж чудовищной (да простится мне это безусловно кощунственное заявление из «раньших» времен).
И все же тогда я, как мне кажется, нашел веское опровержение. Нет, крикнул я ему, не в Афганистан ты поедешь, мурло ты эдакое, а в совсем уж братскую Польшу, где зашевелилась «Солидарность», будешь из автоматика косить поляков, понял, сынок мой ненаглядный?! Он понял мгновенно, и разговоры о ненужности высшего образования стихли. Мало того, сынок пробормотал нечто вроде «ты уж, отец, хватил, ты уж меня совсем за дурного держишь, скажешь тоже — в Польшу идти…» А в Афганистан, значит, с нашим удовольствием?! (Быть может, разговор о Польше возник не в 1980-м году, когда Мишка заканчивал школу, а года два спустя, когда, уже учась на геологическом факультете МГУ, вновь завел свою мелодию о вербовке на Колыму. Сейчас не вспомню точно, тем более, что уже на третьем курсе он счастливо женился, и вся дурь с него слетела мигом. Надеюсь, навсегда.)
У меня же в те самые годы совершенно неожиданно возникла новая тема в работе, причем впервые я обратился не просто к очередному арктическому сюжету, а к отдельно взятой крупной личности — P. Л. Самойловичу. Но об этом в следующей главе.
Глава пятая
ЦЕНА СЛОВА
В марте 1973 года я находился в больнице у Юлия Крейндлина и после удаления желчного пузыря пребывал несколько дней в тяжелейшем состоянии в отделении реанимации. И однажды на пороге возникла Наташа. Дальше ее не пропустили, но она, желая подбодрить меня, успела показать издалека какую-то книжку в синем переплете и даже изобразила на лице нечто вроде восторженной улыбки. Это была только что вышедшая моя книга «Льды и судьбы», первая полноценная, объемная, в твердом переплете книга, с очень солидным для издательства «Знание» тиражом 100 тысяч. Конечно, я ждал ее нетерпеливо, жадно, однако сейчас, покоясь в недрах реанимации, лишь равнодушно глянул на нее, а улыбка Наташи только раздражила меня: «Вот ведь, дурочка малахольная, нашла, чему радоваться! Тут у человека все время рвота, живот разрезан и шрам будет наподобие серпа, болит все невыносимо, жить не хочется, а она делает вид, будто страсть как рада за мужа, художника слова, сантехника человеческих душ!»
Очутившись позднее в палате, я раскрыл книгу и увидел, что редакция внесла в мое авторское предисловие, не согласовав со мной, строки об исторических решениях XXIV съезда партии по дальнейшему хозяйственному развитию Арктики. Я никогда не был диссидентом, не знал этого слова, не знал имен тех первых, очень немногих героев, которые уже проявили себя в дни венгерских и чехословацких событий, кто распространял напечатанные на папиросной бумаге произведения В. Шаламова, Е. Гинзбург, А. Солженицына, и все-таки я уже не позволял себе упоминать в собственных книгах о партии, героях-коммунистах, строительстве светлого послезавтра и т. д. Грешен, в самой первой брошюре это «имело место» — настояли в Политиздате, но там, по крайней мере, обсуждали со мной эту тему и убедили в том, что это поможет прохождению в Главлите (цензуре). Здесь же был самый настоящий редакторский произвол, и, что особенно обидно, исходил он от человека весьма мною уважаемого. Правда, тогда это меня не очень сильно задело — все отступало на второй план на фоне общего самочувствия, почти нестерпимых болей в течение месяца после операции.
Редакторско-цензурный (а точнее сказать — идеологически капеэсэсовский) гнет я особенно остро пережил в истории с Цыкиным. По возвращении с ним из второй поездки в Архангельск я с большим воодушевлением создал первый вариант очерка под названием «На Беломорье лед кололи», показал его Жене… и никогда не увидел напечатанным. Абсолютно не допускающим возражений тоном многоопытный Женя велел мне запрятать его подальше в ящик стола и забыть. Именно тогда он признался, что оформляет выезд всей семьи по знаменитой «израильской визе» за границу. Куда? — он и сам еще не ведает. Знает только, что больше не в состоянии жить в СССР, не в состоянии в прямом смысле слова, с больной, уже не работающей женой и дочкой-школьницей. И при многочисленных «неработающих» патентах на всякие изобретения…
Мы впервые теряли друзей, уезжающих из страны. В те годы это было, скорее, исключением, чем нормой. На службе для таких устраивались общественные проработки с торжественным изгнанием из членов профсоюза или, не дай бог, партии! Не желая навлекать неприятности на Институт, в котором проработал около двадцати лет, Женя заранее ушел в другой, второразрядный, где и подвергся публичному аутодафе. Он этого ожидал и психологически подготовился, хотя нервов все-таки стоило немало. Неожиданным было другое, что его приятно удивило и до слез растрогало: после этого обязательного собрания, где на его голову сыпались чуть ли не проклятия, его новые сослуживцы, с которыми и знаком-то он был всего ничего, устроили ему «отвальную», чтобы выразить уважение и высказать слова зависти счастливчику, сумевшему использовать свое хотя бы четвертьеврейское происхождение. Женя был внуком знаменитого в прошлом революционера Феликса Кона. Поэтому я шутливо назвал предстоящее «Путешествием Кон-Цыкиных» — по созвучию с хейердаловским «Кон-Тики».
(В конце концов, после многомесячного пребывания в Вене и под Римом, семейство оказалось в Австралии, где по сей день живет в городе Перте, на западном берегу. Жизнь вполне благополучна и творчески насыщена. В Гале прорезался талант художницы, уже были собственные выставки. У нее исчезли многие хвори, даже седые волосы на голове почернели! Женя — изобретает, естественно, с учетом австралийской бесснежности. Мы активно переписываемся, несколько раз они звонили, тревожились в дни обоих московских путчей, 1991 и 1993 годов. Женины письма определенно тянут на отдельное повествование, настолько они интересны, даровиты и благородны. Нас он неизменно называет в них «дорогими антиподами, ходящими вниз головами!»)
Еще в 1973 году мой очерк о цыкинском ледовом струге, помимо журнала, увидел свет в книжке «Льды и судьбы». Книга получила неожиданно высокую оценку и заняла первое место на Всесоюзном конкурсе на лучшее научно-художественное произведение года. И это привело к тому, что я получил право на ее переиздание. А в переизданных в 1980 году «Льдах и судьбах» главы «Ледовая пахота» о Женином струге уже не было. Редактор, которому я рассказал, что сейчас Цыкин за рубежом, эмигрант, грубо говоря, тут же решительно изъял главу («не будем дразнить издательско-главлитовских гусей»), а я не стал настаивать, не желая причинять неприятности редактору, хорошему достойному человеку. Впервые я допустил столь отъявленную самоцензуру, и как бы ни самооправдывался, как бы ни уверял себя в том, что иного выхода не было, чувствовал себя препогано.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Жить для возвращения"
Книги похожие на "Жить для возвращения" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Зиновий Каневский - Жить для возвращения"
Отзывы читателей о книге "Жить для возвращения", комментарии и мнения людей о произведении.