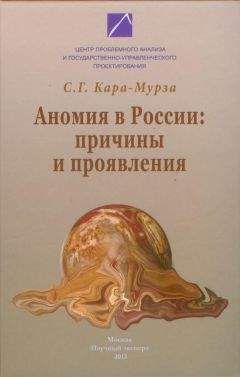Доминик Ливен - АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914"
Описание и краткое содержание "АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914" читать бесплатно онлайн.
Книга известного английского историка, специалиста по истории России, Д. Ливена посвящена судьбе аристократических кланов трех ведущих европейских стран: России, Великобритании и Германии — в переломный для судеб европейской цивилизации период, в эпоху модернизации и формирования современного индустриального общества. Радикальное изменение уклада жизни и общественной структуры поставило аристократию, прежде безраздельно контролировавшую власть и богатство, перед необходимостью выбора между адаптацией к новым реальностям и конфронтацией с ними. Три различные модели поведения класса, утратившего свои позиции, реализованные в трех империях, во многом предопределили их судьбы в потрясениях XX века. Исследователь касается следующих аспектов проблемы; образование и культура, источники дохода (земельные владения, леса, промышленность), аристократия и война, аристократия и политика, жизнь и нравы, этикет и т. д.
Сочетание точного, статистически документированного анализа с широким кругозором и тонким пониманием не полной предопределенности исторического развития делает эту книгу по-своему увлекательным и поучительным чтением.
При дворе необходимо появляться в мундире. В обществе говорят в основном по-французски, но многие понимают и по-английски. Прибывшим в город иностранцам полагается первыми наносить визиты, их либо возвращают лично, либо оставляют визитную карточку. В том случае, если хозяина нет дома, оставляя карточку, следует загнуть один из ее углов. Если иностранец был представлен на званом вечере нескольким лицам, на следующий день ему следует оставить свою визитную карточку в приемной у каждого из них. Лица, представленные иностранцу, в свою очередь, соблюдают по отношению к нему то же правило учтивости. В С.-Петербурге очень пунктуальны по части визитных карточек, которые оставляют после приемов и представлений <…> визиты полагается наносить между тремя и пятью часами пополудни; обеды, по обыкновению, назначаются на шесть или на половину седьмого; приемы начинаются около десяти часов вечера и длятся до очень позднего часа»[233].
Москва, свободная от присутствия императорского двора, уступала Петербургу и в роскоши, и в педантичности, но даже в восьмидесятых годах прошлого века в бывшей столице блюлись достаточно строгие правила. Дамам не полагалось в театре сидеть в креслах партера, а также ездить на извозчике. Им следовало занимать ложи, и передвигаться по городу в собственном экипаже в сопровождении ливрейного лакея. Семьи, где были дочери на выданье, часто устраивали приемы и танцевальные вечера. Любой, кто пригласил девицу на танец, должен был в ближайшие несколько дней нанести визит к ней домой, представиться ее родителям и поблагодарить за доставленное удовольствие. Если учесть, что во время зимнего сезона еженедельно устраивались два-три больших бала, эта обязанность становилась довольно утомительной. Князь Евгений Трубецкой отмечает, что «этот громоздкий великосветский аппарат с его китайскими церемониями почти всем был в тягость. Он оставлял чувство гнетущей пустоты в душе и весьма дорого стоил карману». Трубецкой, как и его брат Сергей, также студент философского факультета Московского Университета, обладал незаурядным умом; братья отказались от той жизни, которую вела московская аристократия, так как светские обязанности занимали все их время и были несовместимы с серьезной работой и научными занятиями[234].
Тем не менее, московская аристократия, как и аристократия всей Европы, пала жертвой вторжения промышленного и буржуазного мира. В 1880-х годах дворянство и промышленное сословие по-прежнему не соприкасались. Князь Трубецкой вспоминает, что представители среднего класса, промышленного и коммерческого, никогда не допускались на аристократические приемы, хотя молодые дворяне уже начинали появляться в некоторых купеческих домах. К 1914 г. в этом отношении произошли значительные перемены, и представители обоих классов стали общаться куда теснее. Очень многие старинные аристократические особняки, расположенные в самом центре Москвы, в районе Пречистенки, перешли теперь в руки преуспевающих купцов или промышленников. В других особняках разместились госпитали, школы и военные академии. В ноябре 1916 г. журнал «Столица и усадьба», российский аналог английского «Country Life»[235], рассчитанный на представителей знати, писал о старой Москве с ее дворянскими особняками, огромными садами, домами, гостеприимно распахнутыми для гостей, как об исчезающем мире. Накануне Первой мировой войны британский генеральный консул в Москве отмечал, что этот город являет собой «торговый центр России и купец является наиболее характерным представителем его ведущего класса <…> В настоящее время в Москве осталось совсем немного аристократов, и те остались там потому, что занимают государственные должности или связаны с университетом». Вследствие подобного положения большинство устаревших и негибких светских правил ушло в прошлое: «Если вас пригласили обедать в русский дом, вы, возможно, обнаружите, что большинство мужчин явится в сюртуках, некоторые в обычных визитках, и лишь немногие — во фраках или вечерних костюмах. Что касается дам, то несколько будут весьма глубоко декольтированы и увешаны драгоценностями, меж тем как остальные явятся в скромных нарядах, которые на наш взгляд напоминают темные домашние платья»[236].
Объединенное системой ритуалов и условностей, высшее общество в то же время разделялось на клики и обособленные круги. Некоторые из этих сообществ создавались по очевидным политическим соображениям. В Лондоне, где политика всегда была излюбленной игрой, в наибольшей степени поглощавшей внимание аристократии, супруги политических деятелей могли значительно содействовать сплоченности кабинета или парламентских фракций. Группировка, образованная вокруг Голландского Дома, являла собой одну из самых знаменитых семейно-политических клик в Европе начала девятнадцатого века; именно эта клика стала ядром парламентской фракции вигов. Даже в, С.-Петербурге аристократия была весьма далека от того, чтобы отказаться от политических споров и группировок в высшем обществе. В 1880-х годах наблюдатель отмечает, что дамы в С.-Петербурге «весьма честолюбивы в том, что касается их мужей, а также их собственных персон. Все они в большей или меньшей степени охвачены желанием играть какую-либо роль, прежде всего политическую <…> В этой империи, управляемой системой абсолютного самовластия, в этом городе, где всякий — такое, по крайней мере, создается впечатление — подвергается полицейской слежке, в разговорах царит свобода, какую не встретишь более нигде». Близкие к политике салоны, где собирались люди со сходными убеждениями в области политики и культуры, уже давно стали неотъемлемой чертой жизни С.-Петербурга. В сороковых и пятидесятых годах дворец Великой княгини Елены был местом сбора политических деятелей, которые вынашивали замыслы либеральных реформ Александра II и в 1860-х провели их в жизнь. Распознав талант в том или ином молодом либерале, Великая княгиня способствовала его знакомству с более зрелыми и влиятельными реформаторами, занимающими государственные посты, и благоволила более или менее свободным политическим дискуссиям, происходящим в ее дворце. Ее роль в объединении реформаторов и в поддержке развития согласованных мер либерального переустройства трудно переоценить[237].
При всем том многие политические группировки не имели возможности оказывать влияние на государственную политику и, в сущности, представляли собой нечто вроде замкнутого дружеского кружка с общими вкусами и интересами. В 1890-х годах наиболее престижным и недоступным кружком в светском обществе С.-Петербурга был так называемый кружок «русских лордов», предметом особой гордости которых было безупречное английское произношение и англизированный образ жизни, который характеризовала привычка к роскоши, безупречность в одежде и в соблюдении правил этикета, а также культивирование холодного и надменного аристократического снобизма. Истинным светочем этого кружка была княгиня Бетси Барятинская, «одна из тех женщин, вся жизнь которых направлена на то, чтобы завоевать власть в обществе. Она знает, как привлечь каждого, кто выделяется благодаря своей красоте, или же остроумию, происхождению, богатству и элегантности. Дом ее охотно посещают, так как этим подтверждается право принадлежать к кругу ее друзей. В ее салон стремятся еще и потому, что у нее непременно можно встретить нескольких членов императорской семьи, а также сильных мира сего»[238].
Артур Понсонби весьма произвольно разделяет лондонское аристократическое общество эдвардианского периода на три основных крута. Представители первого из них, названного Понсонби реакционным, отвергали практически все аспекты современной жизни, хотя терпимо относились к тем переменам, которые делали их существование более комфортабельным. По мнению Понсонби, реакционеры отличались приверженностью ко всем отжившим условностям и неколебимой уверенностью в том, что все более низкие общественные слои обязаны им безграничным почтением.
Вторая группа представляла собой «кружок спортсменов, члены которого отчасти просто по беспечности, отчасти — вследствие откровенной распущенности, посвящали себя охоте, верховой езде, стрельбе и прочим видам спорта; глубоко необразованные, расточительные, сумасбродные, безрассудные и смутно сознающие, что надвигающиеся перемены, судя по всему, неизбежно лишат их некоторых излюбленных развлечений <…> они полагают, что «простой народ», с которым они ежедневно сталкиваются, то есть жокеи, букмекеры, лесники, егеря, лакеи и грумы вполне довольны своей участью».
Третья группа, гораздо более образованная и яркая, теснее соприкасалась с жизнью общества. Предметом гордости представителей этой группы был высоко развитый интеллект и понимание явлений культуры и современности. Они «в совершенстве владеют искусством вести беседу. Благодаря светскости, внешнему блеску и якобы передовым идеям, члены этой группы производили впечатление выдающихся людей, общества которых добивались многие. Никто не станет отрицать наличия у них светских талантов и привлекательных качеств. Их окружает ослепительный ореол, благодаря которому они преуспевают во всем. Хотя бы раз попав в их орбиту, как недоброжелатели, так и откровенные враги, с готовностью подчиняются их обаянию»[239].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914"
Книги похожие на "АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Доминик Ливен - АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914"
Отзывы читателей о книге "АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914", комментарии и мнения людей о произведении.