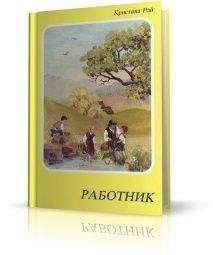Сборник - Антология восточно–христианской богословской мысли, Том II

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Антология восточно–христианской богословской мысли, Том II"
Описание и краткое содержание "Антология восточно–христианской богословской мысли, Том II" читать бесплатно онлайн.
Антология представляет собой первое в России издание, в котором сведены под одну обложку сочинения православных и «еретиков», охватывающие почти полтора тысячелетия. Многие тексты, вошедшие в Антологию, на русский язык переведены впервые, а сопровождающие их статьи написаны с учетом последних достижений современной патрологической науки.
Во второй том вошли сочинения более чем тридцати авторов VI-XV вв. Проблематика тома охватывает богословско-философские системы, возникшие в данный период, восприятие христианскими авторами неоплатонизма и споры с языческой философией, полемику с монофизитством, тритеизмом, оригенизмом и монофелитством, споры об иконопочитании, полемику с латинянами и латиномудроствующими, споры об универсалиях, паламитские споры, некоторые вопросы евхаристического богословия и другие темы, ключевые для понимания мира восточно-христианского богословия, философии и культуры.
Антология восточно-христианской богословской мысли. Ортодоксия и гетеродоксия. В 2-х т. / Под науч. ред. Г. И. Беневича и Д. С. Бирюкова; сост. Г. И. Беневич. – М., СПб.: «Никея»-РХГА, 2009. (Smaragdos Philocalias; Византийская философия: т. 4-5)
Исходный Djvu - http://mirknig.com
К диспуту с Пирром Максим пришел, таким образом, уже со сформулированным в ТР 20 учением об «относительном усвоении» Христом нашей «непокорности», и именно это позволило ему, с одной стороны, отмесш угверждение Пирра, что наша природная воля была усвоена Христом лишь «относительно», а с другой — отрицать у Христа γνώμη и προαίρεσις (см.: PG 91, 329А), не опасаясь дать этим основание для вывода, что какая–то часть нашей природы не «воспринята» Христом (и следовательно, по известному выражению св. Григория Богослова, не исцелена). Христос усвоил и наш тропос противления (в котором проявляется «гноми»), но лишь в том смысле, в каком врач «усваивает» болезнь, т. е. только относительно.
Более того, отсутствие во Христе «гноми» задает парадигму и нашего обожения, т. е. подразумевает «де–активацию» гномической воли в ипостасях святых. Именно такой смысл в свете «Диспута» приобретает сказанное в «Трудностях к Иоанну» (7) о «единой энергии Бога и святых»[454].
Подводя итог этому краткому разбору, можно сказать, что в диспуте с Пирром Максим показывает себя диофелитом и диоэнергис–том уже в новом смысле, исходя из абсолютной немыслимости единства двух природных воль и/ или энергий, Божественной и человеческой, как «одной» воли и/ или энергии и, соответственно, отвергая теперь все унитарные формулы как еретические, безотносительно вкладываемого в них смысла. С другой стороны, как мы убедились, суть учения о единении во Христе человеческой воли с Божией, общая для христологии Максима и его теории обожения, не исчезла из его богословия, но нашла свое новое выражение в утверждении об отсутствии во Христе «гноми»[455]. В дальнейшем прп. Максим уже не сойдет с позиций отстаивания строго диофелитских и диоэнергистких формул, а к формулам периода 640—642 гг. уже никогда не вернется.
Св. Максим Исповедник.
Догматический Томос пресвитеру Марину (пер. А. М. Шуфрина)[456]
Чей принцип [логос] украшается добродетелями, у того ум осия–вается благодатями ведения, выводящими ум изо всякого забвения точно так же, как добродетели отдаляют принцип от подделок, и ведущими к посвящению в сокровенное настолько, насколько побуждают к подражанию ему как явленному ради нас[457]. Указав это во Святом Духе тем, Богочтимый отче, соревнуясь с кеми в ритмике святых манер и еще более святых поступков, сам настолько имеешь большую, чем у них славу, насколько и усилие можешь приложить, пределом дистанции делая ее протяжение, а слова — восхождение к приснодвижному Слову. И делаешь это, чтобы смочь и природу превзойти, и образы все пройти насквозь, и в чистоте собеседовать чистейшему, соответственно умалению самого себя во всем и перед всеми, и соответственно такому совершенному переходу, какой приводит к бесконечному счастливому течению[458], по благодати обходящему и превосходящему все ограниченное, и приготовляющее к тому, чтобы прочно войти во Святая Святых, — куда ради нас Предтечей вошел в том, что соответствует нам, высший нас Иисус[459], — приготовляющее того, кто деятельно «от славы в славу» (2 Кор. 3,18) через добродетель совосходит Ему, и от ведения к ведению проходит со знанием небеса[460], и покрытым тайной многогласнейшем молчанием соответственно оставлению всякого мысленного делания неведомо встречает «Отца духов» (Евр. 12, 9). Посредством благодати и блаженного ревнования о священнодействиях сверхъестественно возведенный Им, ты возводишь подобных мне, поверженных долу, сочувственно протягивая им руку посредством буквы, и смысл [логос] — посредством сокрытого в букве умозрения, убеждая посредством ревнования внутренне уходить от уводящих от Бога и неудержимо от всего сердца [стремиться[461]] к одной только Его — и с Ним единящей — любви. В соответствии с ней, как несложной и безвид–ной, ты побуждаешь и отбросить всякую двойственность (включая покров самой формы связи[462] сознания и явления), и практиковать поистине блаженную и являющую блаженных добродетель. Укрепляемый твоими священнейшими молитвами, я, возможно, буду в состоянии достичь ее, оставив «легко пристающий грех» (Евр. 12,1).
А поскольку и мышление мое вновь пробуждая для работы, и помещение души моей намереваясь очистить от всякого неведения, ты повелел мне тщательно исследовать слово носящего имя Воскресения[463] божественнейшего и великого предстоятеля святой Церкви антиохийцев (или, что то же — Церкви Вселенской) против «Посредника» (а скорее, собственно говоря, Разделителя[464]) — исследовать, сколь совершенно отделяет он и от Бога, и от нас посредством крайнего превращения и смешения вочеловечившегося ради нас Бога и единосущное порождение Отчее, Господа нашего Иисуса Христа, и в каком смысле говорит, что энергия у Него одна, уча при этом, что энергии природны. Именно его [Анастасия], я предлагаю в качестве мудрого истолкователя, учащего смыслу этого (так как оно ему принадлежит) выражения и определяющего его исключительно как нерасторжимое единение свойственных природе энергий, то есть производимый ими результат — говорю о деле[465], как на эти энергии указывающем и их обнаруживающем; если какое–то дело[466] приобщилась названию, которое соответствует «энергии», поскольку, будучи в собственном смысле, конечно, чем–то частным, она является также и всеобщим. Ведь поскольку действие производится сущностной энергией, соответствующей природной особенности, оно принадлежит к разряду частного — равно как и эта производящая его энергия принадлежит, наоборот, к разряду всеобщего. Ведь для особенного естественно приобщаться названиям родовых понятий, а для всеобщего — сказываться о существовании частного, хотя и не приобщаться к его названию, чтобы не иметь возможности стать в каком–то смысле особенным и быть причисленным к разряду частного.
Действительно, как я говорил, назвав результат — или, вернее, действие — самих этих двух, свойственных природе, энергий (как обе в себя вбирающее соответственно их соединению) исходя из им соответствующего имени, этот учитель сказал об одной энергии, чтобы ничто Божественное или человеческое не исполнялось раздельно, но производилось одним и тем же деятелем, вместе сращенно и единенно, соответственно уникальному взаимопроникновению — хотя, конечно, он не сказал тем самым, что у Него одна сущностная энергия в смысле природной особенности; точно так же — как и того, что, в силу самой единичности одного лица, у Него одна сущность и природа, не причастная ни одной из тех, из которых она сложена. Ведь и в соединении природ сохраняется их несходство по сущности, целиком вместе с собою по праву сохраняющее и различие свойств, сущностно этим природам присущих.
И, объявляя об этом в самом слове, над которым потрудился против «Посредника», он, предварительно очень умело различив между природной особенностью, годной для энергии, и самой энергией, выходящей из этой годности в дело[467] — излагает это так: «Поэтому, что одна энергия у Христа» (и приводит причину: чтобы ничто Божественное или человеческое не исполнялось раздельно), «утверждаем и мы». А указав, таким образом, основание соединения, приводит и основание сущностного несходства, говоря: «А не то, что сама эта особенность одна — да не будет! Ведь особенность Божества и человечества не та же самая» (особенность, годная, согласно ему, для выхода энергии — разумеется, природной).
И ниже он возвращается к этому: «И, к тому же, вообще говоря, совершенно необходимо энергии даже и из каких угодно природ, если они сошлись, быть одной, то есть — в смысле общности, даваемой соединением и самим практическим завершением; а особенностью природ одной назвать ее надо без слияния (их, для которых, с другой стороны, пожалуй, и место слияния помыслить невозможно)». Яснее ясного ведь разъяснил этот отец свою мысль посредством свойственных ему выражений, сказав, что одна энергия у Христа не сущностная, чтобы не могло быть привнесено в Его части слияние и смешение; и не ипостасная вовсе, чтобы не могло у Него произойти разобщения и разделения с полюсами — говорю о безначальном Отце и непорочной матери Его. Ведь ипостасью и ипостасными особенностями Он с ними явно различается.
Впрочем, что говорит он? — «Одна — в смысле общности, даваемой соединением и самим практическим завершением». Что и определил он выше как «дело и действие», не оставив какой бы то ни было лазейки ни желающим смешать, ни желающим разобщить; но отогнав первых уведомлением о том, что является, преимущественно и по природе, особенностью соответствующего Ему человечества, а что — сверхсущного Божества; а вторых обратив вспять тем, что ни одной энергии у одного и того же не расщеплял и не разделял. Ведь имя «энергия», обычно используемуе для обозначения движения — как простого, так и наблюдаемого в отношении, — или самого его результата, не привносит смешения в эти вещи, пока будет ясно различенным понимание того, что под ними подразумевается. Соответственно ему, мы и нераздельно сохраняем различия пришедших в сущностное стечение природ, и неслиянно опознаем особенности, отличающие ради соединения одну от другой[468] и каждую от целого, которое ради существования сложено из них — так, что ни соответственно ему не смешиваем, ни соответственно их особенностям конечно не разделяем их, но удерживаем несходство в том, что касается определений сущностей, а их соединение крепко затягиваем принципами существования [логосами] одной и той же ипостаси. Так вот, и по этим причинам, этот — и иной, какой ни есть, признанный, то есть божественный — отец мыслит (как я уже, кажется, написал), что у Христа и одна энергия, и две; первое — обращая внимание на соединение соответствующих природе энергий (как, конечно, и природ), а второе — на их сущностное несходство. И с этим, значит, обстоит так.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Антология восточно–христианской богословской мысли, Том II"
Книги похожие на "Антология восточно–христианской богословской мысли, Том II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Сборник - Антология восточно–христианской богословской мысли, Том II"
Отзывы читателей о книге "Антология восточно–христианской богословской мысли, Том II", комментарии и мнения людей о произведении.