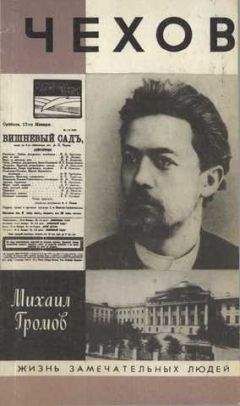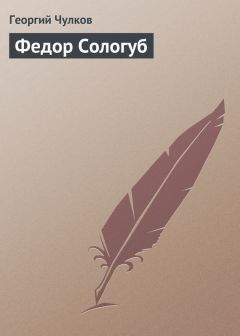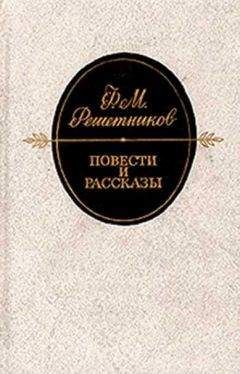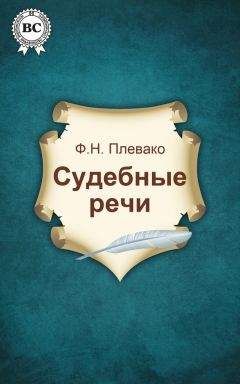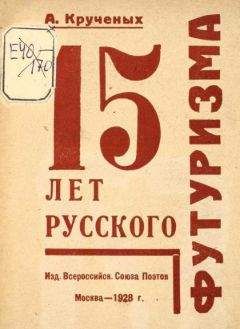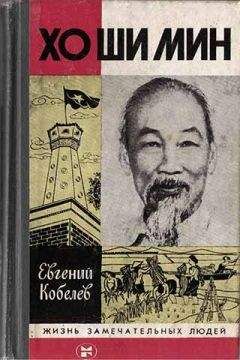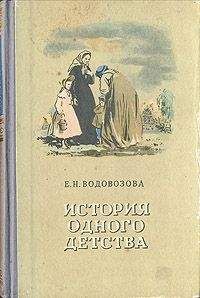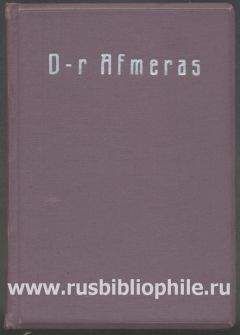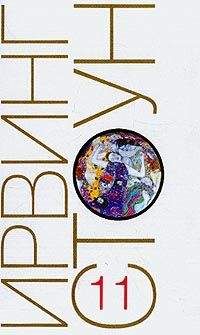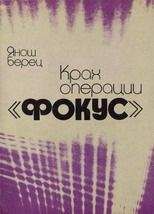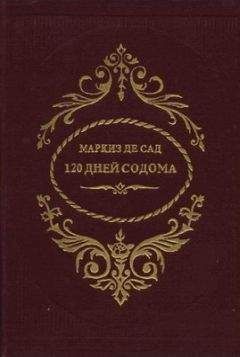Маргарита Павлова - Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников"
Описание и краткое содержание "Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников" читать бесплатно онлайн.
Очерк творческой биографии Федора Сологуба (1863–1927) — одного из крупнейших русских символистов, декадента-ортодокса, «русского маркиза де Сада» и создателя одного из лучших сатирических романов XX века — охватывает первое двадцатилетие его писательской деятельности, от момента вхождения в литературу до завершения работы над романом «Мелкий бес». На обширном архивном материале в книге воссоздаются особенности психологического облика Ф. Сологуба и его alter ego — учителя-инспектора Ф. К. Тетерникова. В приложении публикуются материалы, подсвечивающие автобиографический подтекст творчества писателя 1880-х — начала. 1900-х годов: набросок незавершенного романа «Ночные росы», поэма «Одиночество», цикл стихотворений «Из дневника», статья «О телесных наказаниях», а также эстетический манифест «Не постыдно ли быть декадентом».
Эпизоды, исключенные по цензурным соображениям, были частично восстановлены во втором издании «Тяжелых снов» (СПБ.; М.: изд. т-ва «М. О. Вольф», 1906); в большем объеме — в третьем издании, выпущенном «Шиповником» (СПб., 1909), по которому роман воспроизводился в четвертом издании (Собр. соч.: В 12 т. СПб.: Шиповник, 1909. Т. 2) и пятом издании (Собр. соч.: В 12 т. СПб.: Сирин, 1913. Т. 2)[269].
3
…еще в моем первом романе «Тяжелые сны» я говорил, что истинно-новое обретается на исхоженных путях. Новая форма, как и новая мода, занимательна для современников, а для будущих поколений вся наша новизна обветшает и заслонится новыми, столь же суетными, исканиями, и останется только то, что ни старо, ни ново, а просто хорошо.
Федор Сологуб. 1924[270]Роман, над которым Сологуб трудился более десяти лет («lentement, lentement, comme le soleil»[271], — сообщал он в предисловии к третьему изданию), стал для него обобщением жизненного опыта и одновременно высшим творческим достижением за прошедшие годы.
В «Тяжелых снах» вполне определились темы и проблемы, характерные для его прозы в целом, обозначились доминанты авторского стиля и эстетические приоритеты, остававшиеся также существенными в период работы над «Мелким бесом». Оба произведения создавались на стыке культурных эпох и получили многоплановую стилистическую ориентацию[272], генетическая связь первых романов Сологуба была сразу же отмечена в критике: «Между ними существует несомненная преемственность и в мыслях, и в форме. Это две крупные ступени той внутренней лестницы, по которой, то поднимаясь, то опускаясь, движется душа писателя»[273].
В «Тяжелых снах» Сологуб избрал типичный для его прозы хронотоп — русская провинция конца века (1880–1890-х годов), а также основной повествовательный тон — в традициях социально-бытовой реалистической прозы XIX века (по мнению современников, выступил «как реалист с изумительным знанием быта, которое ставит его наряду таких писателей, как Чехов, Гоголь, Щедрин»[274]).
Вместе с тем изображение провинциальных нравов и пошлости среды не было темой романа. В основу «Тяжелых снов» поставлен центральный для «всего художественного и философского творчества <писателя. — М.П.> вопрос о смысле жизни»[275]. В письме от 15 ноября 1895 года к Л. Гуревич Сологуб объяснял, что в центре «Тяжелых снов» — «современный человек, живущий более книжными и отвлеченными интересами, потерявший старые законы жизни, усталый, развинченный и очень порочный. Логин ищет истины и предчувствует ее, ищет сознательно… Жизнь его и есть вся непрерывно<е> искание истины, на всех путях ищет ее тщетно, потому что истина не покупается трудом, а дается даром и вдруг, как девичья любовь»[276].
Центральный вопрос «Тяжелых снов» обозначен непосредственно в заглавии, отсылающем к трактату Ф. Ницше «Так говорил Заратустра». Ср.: «Десять истин должен найти ты в течение дня: иначе ты будешь и ночью искать истины, и твоя душа останется голодной»; «надо обладать всеми добродетелями, чтобы спать хорошо»[277].
Три центральных персонажа романа — Василий Логин, Клавдия Кульчицкая и Анна Ермолина (Нюта), по замыслу автора, принадлежат к тем, «кто днем не нашел свои десять истин», их троих мучают «тяжелые сны». «Умственный человек» Логин ищет истину на путях разума, Клавдия на пути страсти («Любить, испытывать страсть, гореть с обоих концов» — вот смысл жизни), Анна утверждает истину «в любви к людям».
Философский пласт романа формировался посредством рецепции популярных в символистской среде идей Ф. Ницше[278], Вл. Соловьева, Мережковского, Минского[279], но главным образом посредством развертывания в повествовании метафизической модели А. Шопенгауэра («мир как воля и представление»), которая организует и подчиняет себе все художественное пространство произведения.
В повествовании о любви Логина и Анны угадываются центральные эротические концепции эпохи модернизма: кардинальная для творчества символистов утопия о преображении мира красотой (сцена в беседке в гл. 36), а также идея отказа от эроса в духе «Метафизики любви» А. Шопенгауэра (в стремлении Логина преодолеть «животную» природу инстинкта, не участвовать в продлении «дурной бесконечности»)[280].
Существенными для Сологуба оказываются художественные и психологические проекции, связующие его с прозой Достоевского. Сцена убийства Мотовилова, например, содержит прямую цитатную отсылку к «Преступлению и наказанию»[281]. В отличие от Раскольникова, Логин «перешагнул» через кровь и оправдал убийство.
В очерке «О Достоевском», появившемся в «Северном вестнике» через год после публикации «Тяжелых снов», А. Волынский иронизировал по поводу современного переосмысления классического текста, целясь при этом в Сологуба: «Вот падение Достоевского! Он гениально раскрыл картину освобождающейся личности, признав за нею право на преступление, но дальше он не пошел. В нем не хватило сил довершить психологию великого человека, и он кинулся на колени перед традиционной моралью и устаревшими преданиями. Как это ни странно сказать, Достоевский ударился в банальность»[282].
Исходя из сентенции критика, герой «Тяжелых снов» в банальность не ударился. В рукописной версии романа на вопрос отца: «Но как он будет жить с таким бременем на совести?» — Нюта отвечает в стилистике «Заратустры»: «Рабы ценятся дешевле свободного человека. <…> это как лестница, которая приснилась Иакову, и ангелы всходили и сходили по лестнице. О тех, кто сходил, не нужно жалеть, — пусть они уходят поскорее»[283].
Таким образом, уже в «Тяжелых снах» обнаруживается свойственная поэтике модернистских текстов полемическая перекличка с классическими образами и сюжетами, осмысление их как «строительного сырья». В августе 1912 года Сологуб писал А. А. Измайлову: «Мне кажется, что такие великие произведения, как „Война и Мир“, „Братья Карамазовы“ и прочие, должны быть источниками нового творчества, как древние мифы были материалом для трагедии. Если могут быть романы и драмы из жизни исторических деятелей, то могут быть романы и драмы о Раскольникове, о Евгении Онегине и о всех этих, которые так близки к нам, что мы порою можем рассказать о них и такие подробности, которых не имел в виду их создатель»[284]. Несколько ранее эту мысль высказывал М. А. Волошин в статье «„Братья Карамазовы“ в постановке Московского Художественного театра»[285] и других своих выступлениях; наряду с Достоевским и Толстым, к творцам трагических мифов русской культуры Волошин причислял Сологуба[286].
В ретроспективе этого высказывания «Тяжелые сны» — ступень к созданию романа-мифа на основе парадигмы образов Достоевского. В поздние годы Сологуб вновь возвращался к идее романа-мифа: «Я вот хочу написать трагедию. Такую, каких нынче уже не пишут. Взять какой-нибудь миф Достоевского, ну, что хотите, „Преступление и наказание“, что ли, и создать из этого мифа трагедию. Сохранить только самый миф, обстановку, героев, конечно, Мармеладова так и должна оставаться Мармеладовой, но — язык, образы, — это будет свое»[287].
Не без влияния творчества Достоевского складывался психологический портрет главного героя, в котором выделяются архетипические черты «человека из подполья». «Я — дикий, я — злой, я — порочный», «больной», — неоднократно повторяет Логин (эти же качества наследовал Передонов). «Я человек больной… Я злой человек», — с первой фразы заявляет о себе герой «Записок из подполья». Однако «подпольное сознание» Логина (равно как и Передонова) — не единственная структурно значимая черта образа.
В «Тяжелых снах» Сологуб впервые представил героев, которые были «новыми людьми» в русской литературе, в лице Логина и Клавдии предложил на обозрение поведенческий кодекс и эмоциональный строй человека fin de siècle (с ними могут быть сопоставлены персонажи рассказов сборника З. Гиппиус «Новые люди», 1896). И. А. Гофштеттер, назвавший роман «архи-декадентским», писал: «Ни один из русских авторов до сей поры не доходил до такого откровенного, почти дерзкого декадентства, как Сологуб; поэтому ни по каким другим произведениям нельзя судить так ясно о слабых и сильных сторонах нового движения литературы, как по „Тяжелым снам“ г. Сологуба»[288].
Действительно, внешне традиционный «фасад» романа — проблематика социально-обличительной прозы и сатирические интонации в духе Гоголя и Щедрина контрастно подчеркивали новизну идей и образов «Тяжелых снов».
События в романе разворачиваются в уездном городке, в котором вынужден служить учитель Василий Маркович Логин. Служба ему ненавистна. Жизнь русского захолустья вызывает у него раздражение и ненависть: карты, пьянство, сплетни, грубые развлечения; дочери, ненавидящие матерей, матери, желающие дочерям смерти; отцы-садисты, похваляющиеся безграничной властью над детьми-марионетками; учителя-преступники; друзья, распространяющие клевету и позорные небылицы; женщины, публично торгующие собой и накидывающие сотенки несостоявшимся женихам, — все эти Кульчицкие, Дубицкие, Мотовиловы, Андозерские и иже с ними.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников"
Книги похожие на "Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Маргарита Павлова - Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников"
Отзывы читателей о книге "Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников", комментарии и мнения людей о произведении.