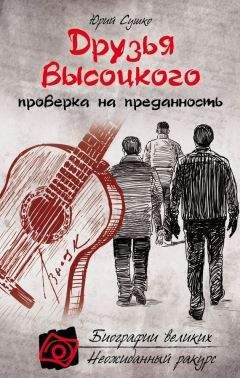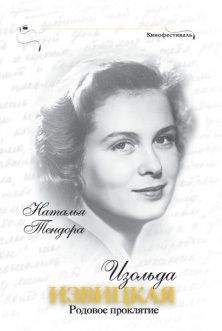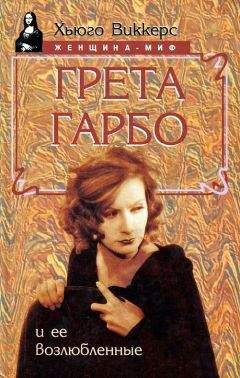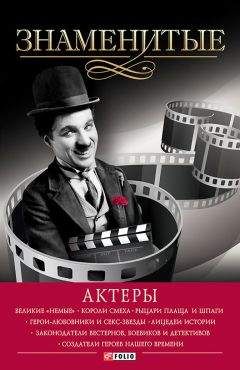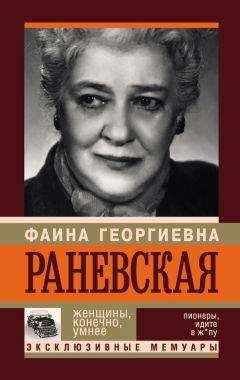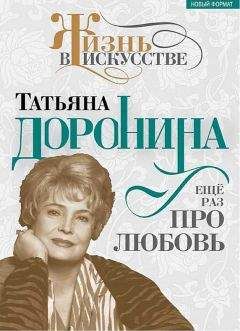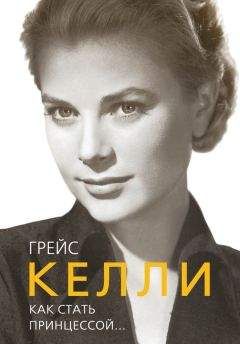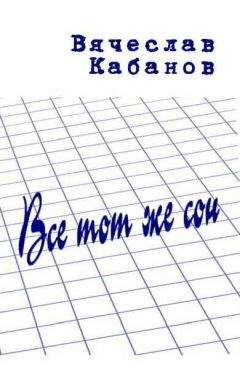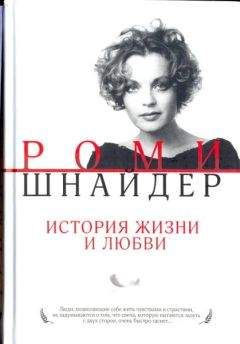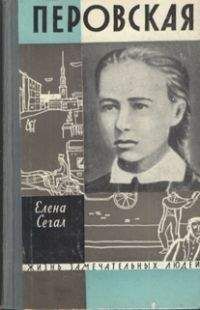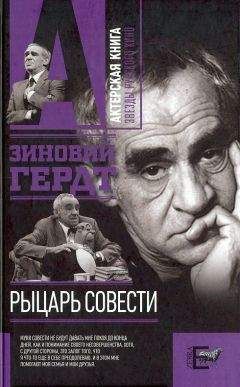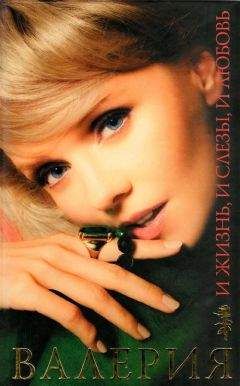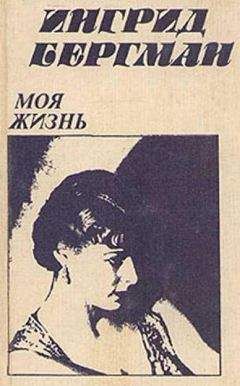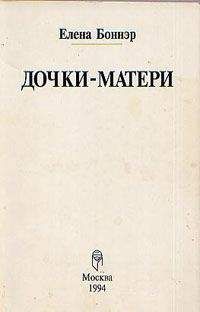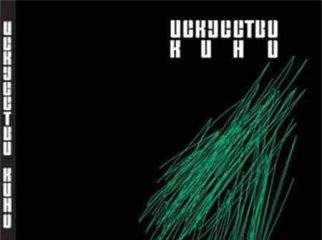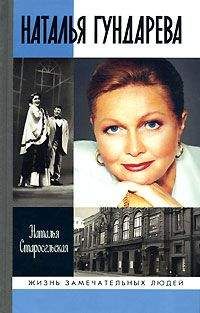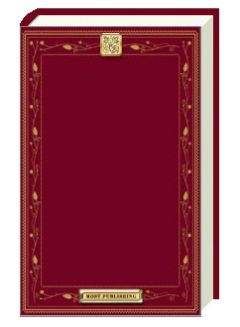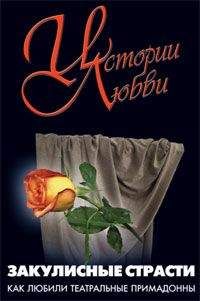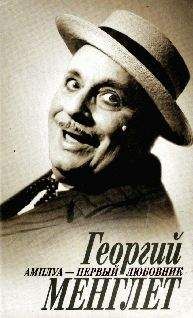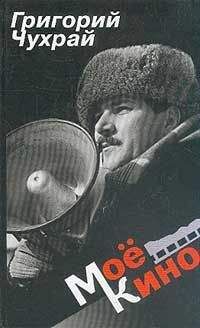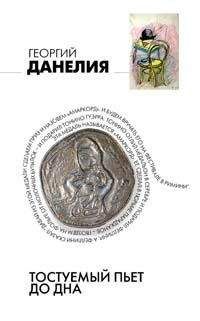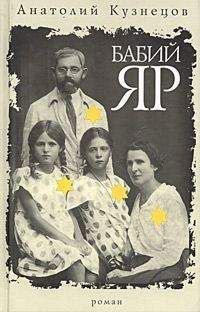Софья Пилявская - Грустная книга

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Грустная книга"
Описание и краткое содержание "Грустная книга" читать бесплатно онлайн.
На первый взгляд, у Софьи Станиславовны Пилявской (1911–2000), замечательной актрисы и ослепительно красивой женщины, была счастливая судьба. Совсем юной она взошла на сцену МХАТа, ее учителями были К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко, ее любили О. Л. Книппер-Чехова и семья Булгаковых. Публика восхищалась ее талантом, правительство награждало орденами и званиями. Ее ученики стали выдающимися актерами. В кино она снималась мало, но зрители помнят ее по фильмам «Заговор обреченных», «Все остается людям» и «Покровские ворота». Однако эта блистательная жизнь имела свою изнанку: удручающая, тщательно скрываемая бедность; арест отца в страшном 37-м; гибель любимых брата и сестры на войне; череда смертей — муж, мама, друзья, коллеги… А потом настали новые времена, к которым надо было привыкать. Но приспосабливаться она не умела… Этой книге, наверное, подошло бы название «Театральный роман» — не будь оно уже отдано другой, той, что читал когда-то вслух гениальный автор немногим избранным друзьям, среди которых была и Софья Станиславовна Пилявская. Но и «Грустная книга» — тоже подходящее название. Потому что, написанная живо и иронично, эта книга и в самом деле очень грустная. Судьбы многих ее героев сложились весьма трагично. И, тем не менее, в воспоминаниях С. С. Пилявской нет ощущения безысходности. Оно вообще не было свойственно ей — мужественной и благородной женщине, настоящей Актрисе.
Издательство благодарит за помощь в работе над книгой К. С. Диадорову-Филиппову, Б. А. Диадорова.
Дом-музей К. С. Станиславского и лично Г. Г. Шнейтер.
Дизайн серии Е. Вельчинского.
Художник Н. Вельчинская.
Константина Сергеевича не удовлетворяло даже то, что делали Фаина Шевченко, которую он очень высоко ставил, и Вера Соколова, не говоря уж о том, как старались и что делали Нина Сластенина, Евгения Хованская и я.
Нам надо было быть и восторженными, и пылкими, и в «лучшем своем качестве», но абсолютно искренними и легкими.
За режиссерским столом, кроме Станиславского, сидели Булгаков, Сахновский, Телешева, заходили Леонидов, Тарханов, а от стола несся грозный голос Константина Сергеевича: «Не верю, сначала!», «Не понимаю слов», «Сначала!» И все грозней и грозней. И это под оркестр, танцы в полную силу. И так не один час. Наверное, от физической усталости ушло напряжение, а от огромного желания сделать, как надо Ему, появилась искренность.
Эту репетицию прекратил Иван Иванович Титов — главный машинист сцены с основания театра, красивый, крупный человек, тогда уже совсем седой. Он бесстрашно подошел к Константину Сергеевичу и шепнул, что пора ставить декорации к вечернему спектаклю, и наш грозный Учитель со словами: «Прошу простить» сразу встал, и мы услышали: «Все в нижнее фойе, репетиция продолжается. Оркестр свободен, благодарю». И уже в фойе Константин Сергеевич терпеливо объяснял нам, что в этой сцене необходимы радостный праздник, увлеченность им, а не простое выполнение режиссерских приказов.
Позднее Константин Сергеевич заново сделал картину «Вечеринка». В связи с этим мне хочется привести малоизвестное письмо Булгакова к Станиславскому.
«Цель этого неделового письма выразить Вам то восхищение, под влиянием которого я нахожусь все эти дни. В течение трех часов Вы на моих глазах ту узловую сцену, которая замерла и не шла, превратили в живую.
Существует театральное волшебство! …Я затрудняюсь сказать, что более всего восхитило меня. Не знаю, по чистой совести. Пожалуй, Ваша фраза по образу Манилова: «Ему ничего нельзя сказать, ни о чем нельзя спросить — сейчас же прилипнет», — есть самая высшая точка. Потрясающее именно в театральном смысле определение, а показ, как это сделать, — глубочайшее мастерство!
Я не боюсь относительно Гоголя, когда Вы на репетиции. Он придет через Вас. Он придет в первых картинах представления в смехе, а в последней уйдет, подернутый пеплом больших раздумий. Он придет»[6].
На одной из репетиций (это было уже весной 1932 года) Константину Сергеевичу что-то не нравилось в том, как Мария Петровна Лилина играла Коробочку, и он пошел на показ. И опять произошло чудо! Направляясь к креслу Коробочки, он становился как бы меньше, и казалось, что в кресле сидит старая баба, а не красавец мужчина, и ясно было, что «механизм часов» остановился. Мария Петровна очень точно схватила суть показа, #сцена пошла.
Но в начале лета Станиславские снова уехали для лечения за границу, так как всю зиму и весну Константин Сергеевич часто болел, тяжело, с высокой температурой. Вернулись они только во второй половине ноября 1932 года, а роль Коробочки была передана Анастасии Платоновне Зуевой.
На одной из репетиций при повороте круга во время ухода гостей с бала на ужин что-то нарушилось, и массивные двери стали угрожающе клониться. Из зала раздался испуганный возглас Марии Петровны Лилиной, еще чьи-то «ахи», но пары продолжали двигаться в том же ритме, оживленно болтая, и только оказавшись за сукнами, разбежались с круга. Круг был остановлен в считанные минуты. Все было налажено, и бледный Николай Николаевич Шелонский сказал, что Константин Сергеевич просит повторить уход. Поворот прошел благополучно, а участников сцены бала Константин Сергеевич поблагодарил за храбрость и высокую дисциплинированность. Все мы гордились похвалой и собственным «спокойствием», хоть и было страшно. Потом рассказывали, как побелел Станиславский, схватившись за сердце.
В конце ноября состоялась генеральная репетиция «Мертвых душ» с публикой.
Рапповская критика в лице Бескина, Новицкого и Ермилова громила и инсценировку Булгакова, и спектакль Станиславского, но кто сейчас помнит этих «критиков»?
На премьере «Мертвых душ» был Всеволод Эмильевич Мейерхольд с женой — Зинаидой Райх.
И здесь я хочу привести выдержку из воспоминаний профессора Чушкина, который описывает эту премьеру и реакцию Мейерхольда на спектакль.
«Мейерхольд был чем-то задет, раздражен. Он бросал короткие реплики, непримиримый ко всему, что видел на сцене, нападал, отвергая все целиком.
…Особенно возмущала Всеволода Эмильевича сама инсценировка «Мертвых душ», сделанная М. А. Булгаковым, с которым у него были свои давние счеты… По существу, это был творческий спор Станиславского и Мейерхольда, спор резкий, принципиальный, начавшийся еще со времен студии на Поварской.
И теперь в связи с «Мертвыми душами» предметом спора был не столько сам Гоголь и приемы его сценического воплощения, сколько различия в понимании природы театра, роли и задач режиссуры, места актера в спектакле, сущности гротеска»[7].
С осени 1931 года Константин Сергеевич приступил к работе над спектаклем «Страх» Афиногенова, до этого времени спектакль готовил Илья Яковлевич Судаков. Несколько репетиций провел Владимир Иванович Немирович-Данченко.
В «Страхе» Афиногенова я была занята в безмолвной роли стенографистки в седьмой картине. В этой сцене участвовали такие персонажи: профессор Бородин и старая большевичка Клара Стасова.
Первоначально роль Клары репетировала Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, но Константин Сергеевич принимал больше ее дублершу — Нину Александровну Соколовскую, а с Ольгой Леонардовной занимался ролью Клары очень пристально. Ей, дорогой нашей «герцогине», «Леопардовне», как любовно называли ее, было трудно, уж очень не ее была эта роль. Константин Сергеевич снял Книппер-Чехову. «Ольга Леонардовна ужасно мучается, но заставляет себя относиться к происшедшему исключительно сдержанно и умно», — писала О. С. Бокшанская в письме к Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко.
Мой отец был на премьере «Страха». На следующий день взволнованно говорил о постановке и о том, как необходим такой спектакль. А о Леонидове сказал, что пережил потрясение, как в давние студенческие годы во время гастролей Художественного театра в Петербурге.
Что говорил отец в мой адрес, я не помню — наверное, о том, как я должна ценить возможность быть рядом со всеми, кто играл в спектакле. Замечательных артистов второго поколения он знал хуже и теперь расспрашивал меня о Ливанове, Добронравове, Ершове, Вербицком, Тарасовой, Морес, Зуевой. Отец был очень занят, не мог часто бывать в театре и очень сожалел об этом.
В начале июля 1931 года, когда театр был на гастролях в Ленинграде, умер В. В. Лужский.
В жизни я с ним никогда не встречалась. Ходила к выносу из театра, внутрь войти не посмела. Из Ленинграда приехали Ольга Леонардовна, Евгений Васильевич Калужский — сын Лужского, еще были актеры, но кто точно, назвать не берусь. Поразили до жути фанфары из музыки Саца на смерть Гамлета. Потом эта скорбная, торжественная, грозная музыка звучала много раз…
В сезоне 1932–1933 года хоронили Владимира Федоровича Грибунина. Он тяжело и долго болел. Единственный раз, уже больным, пришел он днем в театр — в чайный буфет. Как же его встречали, как радовались его приходу! Крупная, красивая, величавая седая голова. Я его видела только в роли Курослепова из «Горячего сердца» Островского — вечно пьяного купца.
«Старики» говорили, что он был артист милостью Божьей, — озорник и выдумщик, играл еще в «Обществе литературы» у Станиславского и что Константин Сергеевич корил себя за то, что мало занимал его в больших ролях и недооценил его огромный талант. Говорили также, что его очень высоко ставил Немирович-Данченко.
Театр прощался с Владимиром Федоровичем Грибуниным в нижнем фойе. Стояли молча — так он завещал. У гроба на коленях металась Вера Николаевна Пашенная — жена Грибунина, она почти голосила.
Станиславского и Немировича-Данченко не было. Сахновский сказал: «На колени!» Все опустились. «Художественный театр прощается с Вами». При выносе я во второй раз услышала фанфары.
Поздней осенью 1932 года Станиславский начал репетиции «Талантов и поклонников» Островского. Он был доволен предварительной режиссерской работой Н. Н. Литовцевой и В. А. Орлова. Одновременно он много работал над «Севильским цирюльником» у себя в оперном театре, занимался с отдельными исполнителями «Золотого петушка» и готовил к выпуску «Мертвые души». Какими же могучими творческими силами обладал наш гениальный Учитель и как выдерживало этот груз его больное сердце?!
Я старалась бывать на всех его репетициях, когда они проводились в театре, и в меру своих сил пыталась понять, чего он требовал от актеров. Он говорил: «Ничего не нужно «играть», лишь выполнять простые физические действия, и все остальное будет само жить… — таков закон нашего театра. Через мысль — к выполнению поставленной задачи».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Грустная книга"
Книги похожие на "Грустная книга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Софья Пилявская - Грустная книга"
Отзывы читателей о книге "Грустная книга", комментарии и мнения людей о произведении.