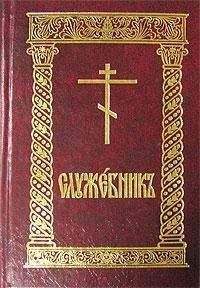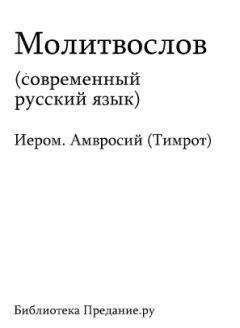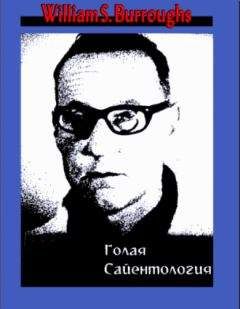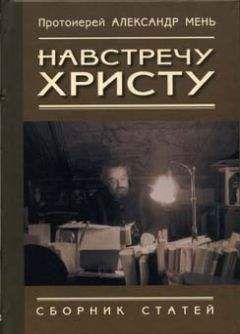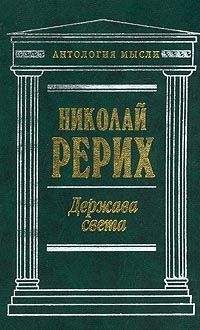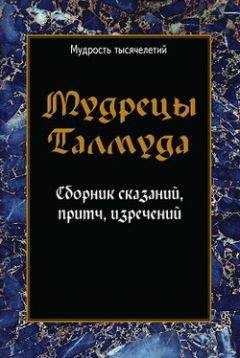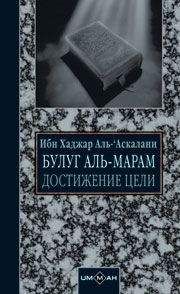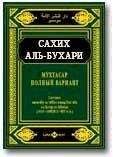Владимир Бибихин - Сборник статей

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Сборник статей"
Описание и краткое содержание "Сборник статей" читать бесплатно онлайн.
Статьи В. Бибихина, размещенные на сайте http://www.bibikhin.ru. Читателю надо иметь ввиду, что перед ним - не авторский сборник и не сборник статей, подобранных под ту или иную концепцию. Статьи объедены в чисто технических целях, ради удобства читателя.
Даже если привести всё, что сказано Арто о преображении тела, и успей он сказать гораздо больше, само свойство темы всё равно оставляло бы здесь многое в темноте. Жестокость театра — это сырое, первобытное, мощное в противовес литературному, рассудочному, книжному. Если не прикоснуться к силам земли, то нечего надеяться на слом коросты, мертвящей душу европейского человека. Цели Арто скрываются в тумане. Там можно угадывать контуры прадревних мистических реалий. На священной сцене театра — зритель будет ею поглощен, потому что действие будет происходить вокруг него, со всех сторон — человек вступит в непосредственное отношение к Опасному, обновится таинственным Страхом, который не раздавит его, а оживит силой хаоса. «Жестокость, — говорится в письме Жану Полану 14.11.1932, — не прибавление к моей мысли; она всегда в ней жила, но мне надо было еще ее осознать. Я употребляю слово жестокость в смысле жажды жизни, космической строгости и неумолимой необходимости, в гностическом смысле водоворота жизни, пожирающего тьму, в смысле того страдания, вне неизбежной необходимости которого жизнь не смогла бы осуществиться; добро намеренно, оно результат действия, зло постоянно». Сторона мучения и страдания занимают в идее жестокости только малую часть; жестокость прежде всего сила, которая одна может пойти против насилующего человека потока вещей. Жесткая необходимость творчества оправдывает жестокость, наливает человека силой остановленного потока.
Важно понять Арто: ясен или неясен его проект, реален или утопичен, для него это, как ни парадоксально, чисто теоретический вопрос, потому что всё равно альтернативы спасительному преображению нет. Все остальные выходы из нашей ситуации будут позорно унизительны. Задача единственна, потому и совершенно неважно, разрешима она или нет. В любом случае все усилия должны быть отданы тому, как суметь и успеть миллиметр за миллиметром отобрать пространство жизни у смерти и вернуть ее спасенному буйству праздника. Человеческое тело конечно уже есть, оно только пока еще временно, условно (provisoire), и надо в неустанно оттачиваемой игре–работе всё его снизу доверху, насквозь, клеточку за клеточкой научить прямостоянию, отстоять от невозвратимого тления.
В спорте и в современном театре дыхание считается функцией тела, дыхание ставят, полагаясь на физику мышц. Арто хочет перевернуть это соотношение: дыхание или, вернее, вздох — он с самого начала уже несет в себе ростки всякого чувства и настроения и мысли — должен стать для актера той органической опорой, на которой постепенно выстроится жест, движение, поза. Человеческое существо актера должно стать «излучением энергии его чувства» ( «Атлетизм чувства», 1935).
Мы видели, что простирание жизни–культуры, которое совершается в театре и само есть первотеатр, Арто тоже ведет от безначального неслышного вздоха, материализующегося в одуховленную плоть. Таким образом, восставление бессмертного тела, о котором говорит Арто в 1947–1948 годах, то же самое что раздвижение пространства культуры, тема его статей 1930–х годов. Жизнь тела питается вздохом, в простоте которого ключ к будущей спасенности всех телесных состояний. Овладевающий им и развертывает царство культуры, и сохраняет неистощенным средоточие движений жизни. Если подлинная культура есть физическое развертывание духа, то понятно, что всю работу культуры зачинает актер на сцене, первым превращающий свое тело в ее живой оплот.
Перечислим последовательные ступени этого рассуждения Антонена Арто. Изображения, особенно механизированные, письменность и привязанный к ней послевозрожденческий психологический театр неспособны физически перестроить тело по замыслу духа. Они только без конца описывают, рассказывают, демонстрируют, перегружая и без того усталую способность пассивного восприятия. На подражательную мимику, эстетическую позу тело само по себе непосредственно не откликается, оно к ним глухо. Психологический театр выговорился, погоня за более и более точным емким словом иссушила слово, заставила предпочитать ему тишину, где можно лучше слышать жизнь ( «Четвертое письмо о языке», 1933). Необходим истинный театр, в завораживающей торжественности которого впервые родится светлый близнец тех страстей, которые сейчас манят человечество в бездну. Если сейчас, подходя к ее краю, человек смутно ощущает веяние своего бессмертия по охватывающему его неистовству, то там дело будет идти о прямом восстановлении в буйном празднике театра бессмертного человека не в умозрении, а в телесности, не в тесном индивиде, а во всемогущей общности ( «Третье письмо о языке», 1932). Подлинный театр подобно чуме «кризис, разрешающийся смертью или исцелением. Он зовет дух к безумию, в котором взмывают духовные энергии […] театральное действо открывает коллективам их туманное могущество, их сокровенную силу, приглашает встать перед лицом судьбы в героическую и властную позу, какой они иначе никогда бы не знали» ( «Театр и чума», 1933). Если не издевательское потустороннее, а реальное бессмертие, без которого нет смысла жить, возможно для человека, то должно быть и реальное место, где оно осуществится. Такое место Арто видит в театре как срединном пространстве мира. К восстановлению в нем не обреченного на исчезание человеческого тела или, что для Арто равносильно, тела культуры, сходятся все его мысли.
Не существует шпенглерианской неизбежности того, чтобы каждая культура как замкнутый организм слепо проходила отмеренный путь развития, а потом вставала перед сокрушающим историческим судом. Пример того же Шпенглера показывает, что она в состоянии заранее совершать суд сама. Работа Антонена Арто тоже была в большой своей части жестким самосудом культуры, к которой он вполне принадлежал. Она же им беспощадно отметалась во всех ее многовековых накоплениях, которые уже ничего не говорили его нетерпеливому бунтарскому сознанию и его голоду по немедленному телесному воплощению всего заветного. Никакой внешний суд над ней не мог быть таким понимающим и жестоким. Но только изнутри своей культуры влюбленный в нее враг мог поставить ей задачу, которая и спасала ее и по существу возвращала к ее древней мечте.
В 1967 году Ежи Гротовский сказал, что современный театр вступает в эру Антонена Арто. До Гротовского многие теоретики театра заговорили о двух течениях в нем, одно из которых ориентируется на Брехта, другое на Арто. Противопоставления между ними однако не может быть уже потому, что театр Брехта реально существует со своей драматургией, конкретной методикой постановки, приемами, традициями, тогда как театр Арто по–настоящему так и не воплотился даже у его последователей. Трудно найти современный театр, особенно экспериментальный, где не склонялось бы имя Арто, но даже те два театральных начинания, которые обычно всего теснее сближают с его идеями, просуществовавший с 1947–го по 1972–й Ливинг Джулиана Бека и Юдифи Малины и созданный в 1959–м в Кракове Театр–лаборатория Ежи Гротовского, оформились намного раньше, чем эти режиссеры по их собственному признанию услышали об Арто и прочли «Театр и его двойник» (Дж. Бек и Ю. Малина впервые в 1958–м, Гротовский еще намного позже), а кроме того, при множестве внешних аналогий суть мысли Арто даже в этих двух театрах не отразилась. Можно даже сказать, что в главном, в нетеатральности поставленных целей, в порыве к действительному преображению мира (тогда как Ливингу было достаточно иногда просто эпатировать публику), в тяге к научной строгости театральной работы, в обращении обязательно ко всей массе народа (тогда как театр Гротовского, например, крайне элитарен) Арто как раз всего ближе к Брехту.
Арто определенен и точен в своей ненависти к современному «расиновскому» театру; этот скатился до второразрядной психологической и морализаторской функции, хуже других искусств извращен и погряз. Предложения Арто по устройству нового театра, когда они не сбиваются на метафизические перспективы, смущают неадекватностью поставленной цели, хотя часто глубоки. Главное лицо в театре не актер, а режиссер; вернее, актер и режиссер должны слиться в «едином Творце». Прежде всего событие, за ним психология и страсти, имеющие развернуться только в свете исторической фатальности события; здесь возвращение к фатуму античной драмы и к (аристотелевскому) положению о первенстве фабулы над характером. «Всякий спектакль должен содержать физические и объективные моменты, ощущаемые всеми. Крики, вопли, видения, внезапность, всевозможные театральные трюки, магическая красота костюмов, построенных по определенным ритуальным моделям, сверкание света, завораживающая красота голоса, прелесть гармонии, редкостные музыкальные тоны, расцветка предметов, физический ритм движения, крещендо и декрещендо которого должны сопутствовать пульсации общепонятных жестов, демонстративное явление новых и неожиданных предметов, маски, многометровые манекены, резкая смена освещения, физическое воздействие света, вызывающего чувство жары и холода, и т. д.». Речам, репликам надо придать весомость фраз, какие иногда слышишь во сне. Пусть зал специальной храмовой архитектуры имеет вращающиеся кресла для зрителей, сидящих в центре, действие происходит вокруг них. Актеры играют на разных уровнях многоэтажной галереи. Предусматривается возможность (желательность) непосредственной импровизации, отступлений от текста. Всё служит тому, чтобы ввести зрителя в целительный транс. Для этого надо, чтобы актер научился технике «неистовой спонтанности». От кого? Очевидно, от режиссера. Но тот сам пока еще только ищет в себе эту необходимую творческую силу, одновременно сковывающую каждое движение железным детерминизмом и рассвобождающую; он обретет ее, когда театр сможет вызывать в зрителе восприимчивость к слову и жесту.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Сборник статей"
Книги похожие на "Сборник статей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Бибихин - Сборник статей"
Отзывы читателей о книге "Сборник статей", комментарии и мнения людей о произведении.