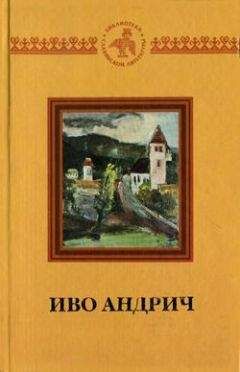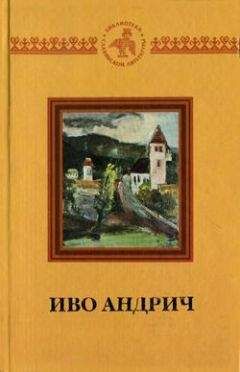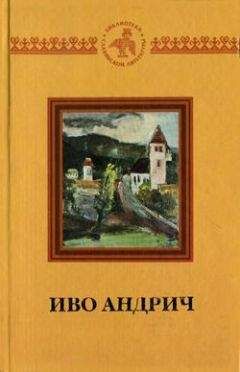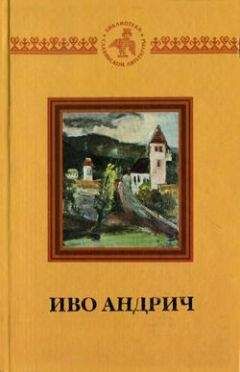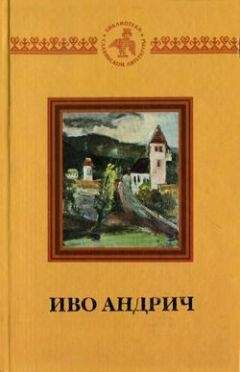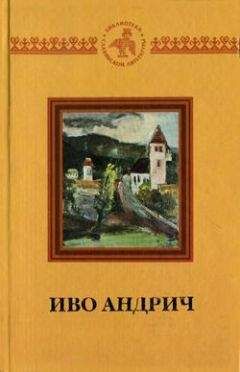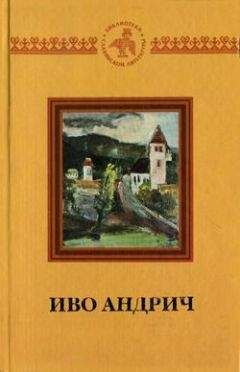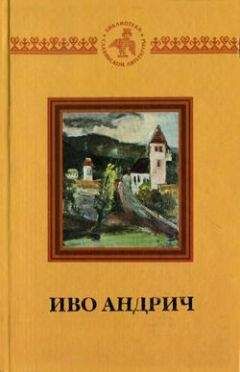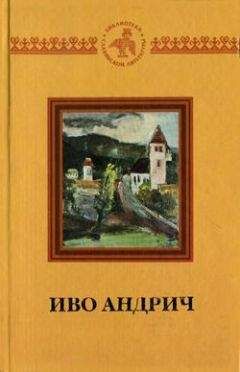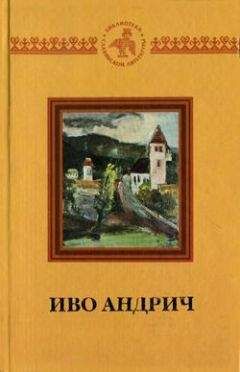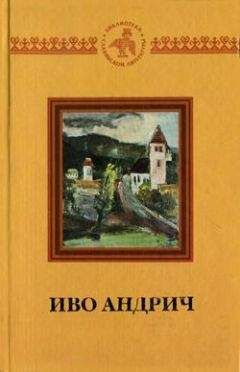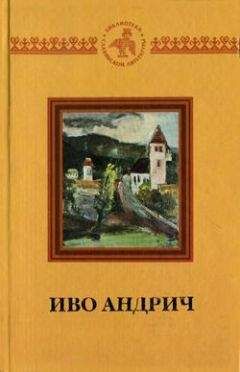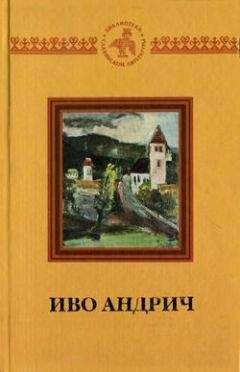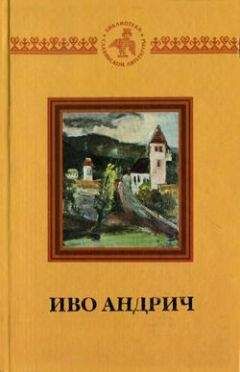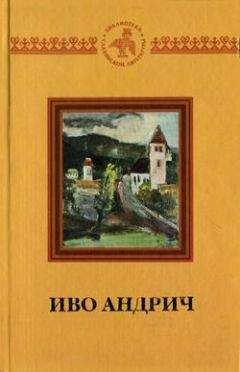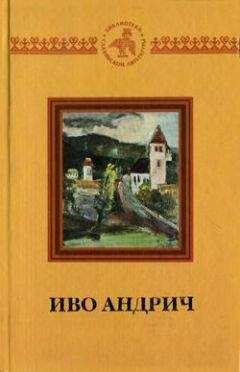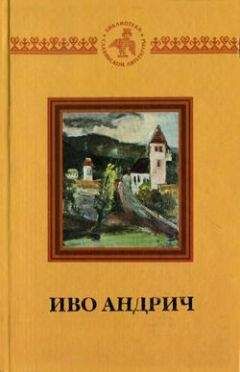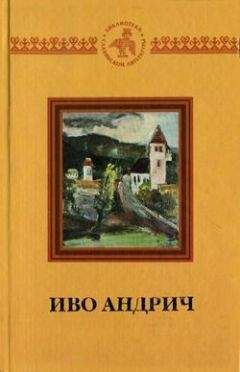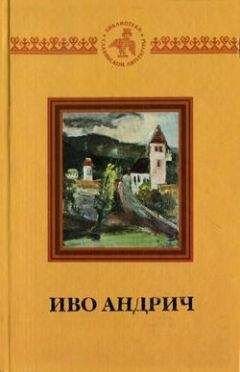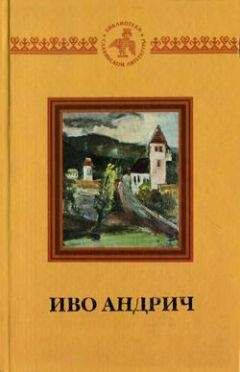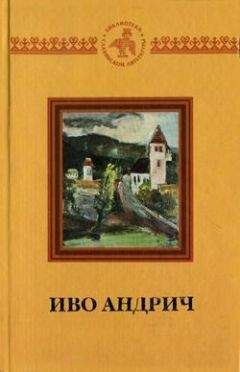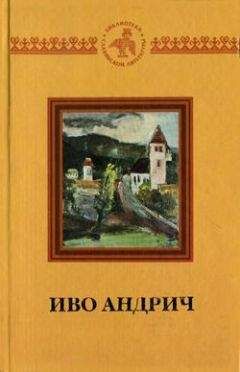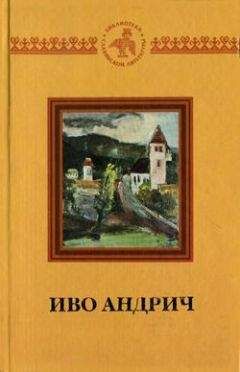Иво Андрич - Собрание сочинений. Т.1. Рассказы и повести

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Собрание сочинений. Т.1. Рассказы и повести"
Описание и краткое содержание "Собрание сочинений. Т.1. Рассказы и повести" читать бесплатно онлайн.
В первый том Собрания сочинений выдающегося югославского писателя XX века, лауреата Нобелевской премии Иво Андрича (1892–1975) входят повести и рассказы (разделы «Проклятый двор» и «Жажда»), написанные или опубликованные Андричем в 1918–1960 годах. В большинстве своем они опираются на конкретный исторический материал и тематически группируются вокруг двух важнейших эпох в жизни Боснии: периода османского владычества (1463–1878) и периода австро-венгерской оккупации (1878–1918). Так образуются два крупных «цикла» в творчестве И. Андрича. Само по себе такое деление, конечно, в значительной степени условно, однако оно дает возможность сохранить глубинную связь его прозы и позволяет в известном смысле считать эти рассказы главами одной большой, эпической по замыслу и характеру, хроники, подобной, например, роману «Мост на Дрине».
Так, на сорок третьем году жизни и умерла госпожа Ната, неожиданно быстро и просто освободив дом от своего, как всем казалось, всемогущего и вечного господства. После кончины о ней поразительно мало вспоминали, словно бы нарочно старались скорее ее забыть. Дольше других помнила о ней насмерть обиженная тетка. Когда ее муж, дядька газды Николы, шесть месяцев спустя после смерти госпожи Наты вернулся с поминания покойной на кладбище, она встретила этого добряка такими словами:
— Значит, и Каменковичи умирают! Целое утро думаю об этом, и может быть, нехорошо то, что я тебе скажу, но все же мудро распорядился господь бог! Иначе за сто лет Каменковичи бы так расплодились, что полмира прибрали бы к рукам!
Муж. Никола Димитриевич перебрался в Белград девяти лет от роду. Крестьяне из их края не любили отсылать на сторону своих детей, но нет правил без исключений. У мальчика за одну зиму от какого-то повального мора скончались и отец, и мать; деревенская родня оказалась плохой и недружной, и сироту забрал в Белград младший брат отца, он держал его у себя, пока Никола учился в начальной школе, а потом отдал в обучение торговому делу в известный магазин галантерейных товаров на улице Князя Михаила.
Николин дядька Савва был редким исключением и в селе, и в семье. Еще ребенком он отличался необыкновенной тягой к учению и книгам. На год отдали его в валевскую гимназию, иначе он грозился убежать из дома, но в гимназии он обнаружил такое рвение в занятиях и память, что преподаватели, считавшие его вундеркиндом, не отпустили его из гимназии. Гадали, что из него получится. Ученый, великий математик или филолог? А может быть, политический деятель? Все было возможно. Савва выказывал равные способности ко всем предметам и по всем предметам получал отличные отметки. Улыбчивый, скромный и застенчивый, мальчик не имел ни определенной цели, ни сильных желаний. И чем дальше и успешнее продвигался в науках, тем сильнее развивалась в нем странная апатия, удивительная неспособность проявить хоть к чему-то живую заинтересованность или юношескую страсть. Так он закончил шесть классов тогдашней валевской гимназии, и его преподаватели позаботились о том, чтобы юноша не остановился на полпути, и дали ему возможность переехать в Белград, чтобы здесь закончить гимназию. Молчаливый, улыбчивый, он с отличием сдал экзамены на аттестат зрелости. И именно тогда, когда ему уже было обеспечено содержание для занятий в университете и предстояло лишь выбрать специальность, он, ко всеобщему изумлению своих покровителей, поддерживавших его все годы учения, отказался продолжать образование и поступил архивным чиновником в министерство сельского хозяйства. Таким образом собственноручно закрыл для себя перспективы дальнейшего развития и продвижения в обществе. За один-два года «исключительно одаренный юноша» затерялся в серой массе белградского низшего чиновничества. Какая-то непостижимая робость сломала жизнь этого от природы замкнутого человека. Подобно тому, как другие с неистовым упорством всеми путями и средствами пробиваются вперед, стремясь занять в жизни более высокое место, так он со столь же неистовым упорством сторонился и чурался всего, что напоминало какой-то успех, старался держаться в тени, жить тихо и незаметно. И это ему удалось. Блестящий ученик и надежда валевской гимназии, Савва Димитриевич так и остался архивным чиновником, а все его «таланты» и многогранная эрудиция оказались погребенными под маской учтивого и улыбчивого молчания.
Но все же и на службе он быстро выделился своей добросовестностью и знаниями и в конце концов стал шефом архива. Женился он на уроженке Нови-Сада, переехавшей к родным в Сербию; это была некрасивая, но образованная и начитанная девушка, живая, говорившая литературно-изысканным языком с оттенком искусственности и простодушного жеманства. После рождения первого, сразу же умершего, ребенка они жили без детей.
Два счастливых года своего отрочества провел Никола у этой супружеской четы, после чего ему пришлось испытать тяготы нелегкой доли отданного в торговое дело мальчика. Но Никола, старательный и покладистый, и внешне и внутренне похожий на своего дядьку Савву, все пережил и превозмог. Так миновали нескончаемые годы ученичества и еще более долгие годы работы приказчиком, и наконец настало время, когда Никола открыл свою лавку и женился на девушке из богатого и влиятельного в торговых кругах дома Каменковичей.
Тут жизнь Николы Капы переломилась надвое, если то, что досталось ему в удел после женитьбы на дочери Каменковича, можно было назвать жизнью. Как мы уже видели, жена ела его поедом; она не проглотила его целиком, наподобие самок насекомых, которые проглатывают своих самцов, но вылущила его изнутри, выпотрошила, пощадив лишь тонкую стенку фасада и предоставив манекену под именем газды Николы Димитриевича-Капы продолжать жизнь, иными словами: торговать, осмотрительно, но неуклонно расширяя свое дело, умножать достаток, увеличивать состояние и поднимать свой авторитет в глазах белградского торгового мира. Все это он делал не на правах самостоятельно действующего лица, а исключительно как муж госпожи Наты Каменкович и отец ее детей. Отныне он воспринимался лишь в этом и ни в каком ином качестве не только его женой и целым светом, но и им самим. И только таким он и мог существовать. Ни для чего иного — ни для живых, ни для мертвых — в его жизни места не оставалось.
Первое время он иной раз, тайком от жены, еще навещал дядьку Савву. (Они давно уже жили в собственном доме на Сеняке, купленном на его сбережения и ее довольно большое наследство из Нови-Сада. Под участок им достался, правда, пустырь, но Савва разбил прекрасный просторный сад, где разводил пчел. Как раз недавно после двадцатипятилетней службы Савва вышел на пенсию. И раньше жившие уединенно, теперь они еще больше замкнулись и тихо, благостно, рядышком старели.) Чуть ли не в первую же встречу Саввина жена, акцентируя каждое слово, как на сцене, и вглядываясь в племянника своими добрыми близорукими глазами, спросила:
— Скажи, ты по крайней мере счастлив?
— Да как будто бы, тетушка.
— Нет, Никола, не верю я этому. Я все вижу, не надо мне ничего говорить. Но что поделаешь? Это твой крест, скинуть его нельзя, значит, надо нести с достоинством. Ты прав.
Дядька Савва при этом лишь смущенно моргал ресницами.
Госпожа Ната быстро дозналась о визитах Николы, и «ради мира в семье» он вынужден был от них отказаться; теперь он навещал дядьку лишь дважды в год — на славу и на рождество.
Таким образом, он был целиком и полностью порабощен.
Тихий, худой, будто высушенный, прямой, бледный и рано поседевший, с глазами, ставшими от этого еще больше и темнее, аккуратный, корректный, подчеркнуто любезный со всеми и всегда торжественно, словно на похороны, одетый: в черной паре, в накрахмаленной рубашке с высоким стоячим воротником и темным галстуком, в черных мягких туфлях. Таким представал он перед людьми и в магазине, и на улице, где с глубоким почтением отвечал на каждое приветствие, приподнимая свою черную, казавшуюся неизменно новой шляпу.
Таким он жил или, точнее, обретался в жизни, за двадцать лет ничего в ней не меняя и почти не меняясь сам. И вот после двадцатичетырехлетнего супружества госпожа Ната неожиданно скончалась.
Когда внезапная смерть уносит людей, довлеющих над всеми окружающими, вдруг возникает настороженное затишье, и те, для кого этот гнет был составной частью их жизни, ощущают странное нарушение привычного равновесия. Газда Никола неожиданным образом очутился на непредвиденном и опасном перепутье: то ли по инерции прежнего существования двинуться вслед за женой, то ли остаться и, если возможно, попытаться продолжить прерванную женитьбой жизнь, начать жить заново и для себя? Зияющая пустота, поглотившая его жену, затягивала и Николу в свой мутный и бездонный водоворот, и лишь частичка собственной личности, невзирая ни на что уцелевшая в нем, удерживала его в жизни. Некоторое время трудно было сказать, каким путем он пойдет. Он еще больше высох и похудел, притих, как бывает со сломленными людьми, но все же выстоял.
Год спустя после смерти жены, выдав замуж вторую свою дочь за молодого расторопного торговца по своему же галантерейному делу и оставшись в доме один, газда Никола начал приходить в себя и поправляться, хоть это и шло медленно и туго.
Узник, проведя многие годы в заключении, внезапно раньше срока выпущенный на свободу, непременно переживает более или менее тяжелый кризис. Необходимо долго привыкать, прежде чем сможешь вернуться к своей старой походке и прежнему образу жизни. В этом периоде примерно три фазы. Фаза первая. Куда бы ты ни пошел, куда бы ни направился, так и чудится, будто бы стражник повсюду следует за тобой по пятам и стоит только оглянуться, как ты воочию увидишь его перед собой. Вторая фаза. Свободно расхаживая по улицам, бывший узник чувствует, что ему чего-то недостает: он не слышит за собой шагов и утратил ощущение того, что стоит ему оглянуться — и он увидит неотступного спутника, сопровождающего каждое его движение, — вооруженного стражника, следующего за ним как тень. Это мешает, вселяет тревогу и даже некоторый страх. И, наконец, третья фаза. Человек не слышит шагов за спиной, ему не чудится, что по пятам за ним идет провожатый, но это его нисколько не смущает, ибо он выбросил из головы конвойных и годы своей неволи. Значит, он изжил в себе поднадзорного и морально излечился. Только после этого бывший узник может сказать, что он снова стал свободным человеком, независимым в своих действиях. (Возможно, эти фазы у каждого индивидуальны и не имеют столь резко и четко очерченных границ, однако несомненно, что всем бывшим узникам приходится испытывать нечто подобное.)
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Собрание сочинений. Т.1. Рассказы и повести"
Книги похожие на "Собрание сочинений. Т.1. Рассказы и повести" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Иво Андрич - Собрание сочинений. Т.1. Рассказы и повести"
Отзывы читателей о книге "Собрание сочинений. Т.1. Рассказы и повести", комментарии и мнения людей о произведении.