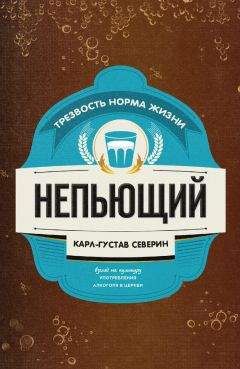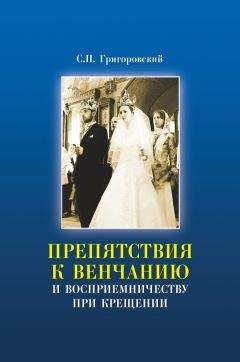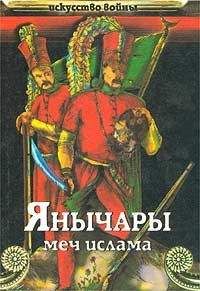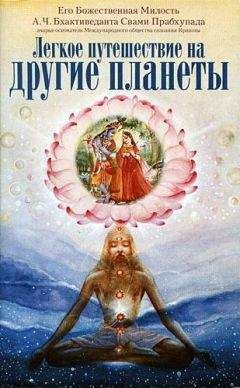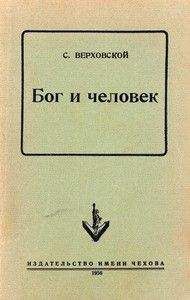Сергей Иванов - Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?
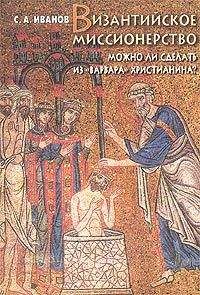
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?"
Описание и краткое содержание "Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?" читать бесплатно онлайн.
В чем состояли главные миссионерские достижения Византии? Современный человек ответил бы: в создании славянской азбуки и в крещении Руси. Между тем, ни один византийский источник IX в. ни словом не упоминает о Кирилле и Мефодии, точно так же как ни один грек, живший в X столетии, не оставил нам ни строки насчет крещения князя Владимира. Такое молчание века» не может быть случайностью, тем более что оно сопровождает и многие другие миссионерские предприятия Византии: в Эфиопии, Аравии, Персии. Тут кроется некая фундаментальная особенность в восприятии средневековыми греками окружающего мира и самих себя. Раскрытию этой специфики и посвящена данная монография.
В ней, впервые в мировой науке, прослежена история византийского миссионерства на всем ее тысячелетнем протяжении. Автор подробно рассматривает все христианизаторские предприятия греков, многие из которых до сих пор ускользали от внимания ученых.
Впервые греческая православная миссия рассмотрена с точки зрения не только «миссионируемого» (какую роль она сыграла в истории христианства в той или иной стране?), сколько миссионирующего (зачем нужно было византийцам обращать «варваров»?). Главный вопрос, на который автор ищет ответ: мог ли, в сознании византийца, «варвар» вообще стать христианином? Империя проиграла своим конфессиональным конкурентам мирное соперничество за Хорватию, Чехию, Боснию, Литву, Хазарию, Венгрию, Северный Кавказ — почему?
Итак, христианское войско Таормины во главе с неким Вонифатием разгромило аваров и захватило их в плен. Когда герой жития Панкратий начал служить литургию в присутствии пленных варваров, «весь полон изумился и пришел в восхищение, заслышав [его] сладкое пение, и стали они говорить друг другу: «Что за чин у них тут, что они так воюют, и так все устроено в их земле (ποια τάξις θέλει είναι ταύτη, και έν τοις πολέμοις τοιαϋτα, και έν τη γ?} αυτών ούτως)? Какому богу они служат?«Никто не решился рассказать им о [христианском] чине, Поскольку предводитель (таорминцев. — С. И.) сказал: «Пусть °ни не узнают о нашей вере во Христа без блаженного [Панкратия] — он сам всех огласит и крестит (κατηχήσας βαπτίσει)“. блаженный принялся расспрашивать (Вонифатия. — С. И.) о пленных: какого они рода, и какой у них язык, и сказал: «Дитя, есть ли у тебя эллины, усвоившие мудрость («Ελληνας τής σοφίας πραξιν είληφότας)“? А Вонифатий блаженному: «Нет, отче, они все авары, племя весьма мерзкое, совершенно не владеющее [нашим] отеческим языком (μή δ’ ολως τής πατρικής γλώσσης προσεγγίζοντα)«… Вонифатий распределил добычу… и полон весь, велев [воинам] стеречь каждого, сколько бы дущ он ни получил, дабы они приняли святое крещение. Приведя переводчика, [Панкратий] сказал им: «Мы христиане и исповедуем Христа, а если и вы выучитесь греческому и латыни, мы сделаем вас христианами (έαν μάθετε καί υμείς τό Ελληνιστί καί Ρωμαϊστί, ποιοΰμεν υμας Χριστιανούς)«… А пленные через переводчика сказали: «Никогда, господа, не видали мы такого, что узрели на войне». Блаженный сказал им через переводчика: «О мужи, поведайте нам о том великом, что вы увидали, а мы скажем вам слово могучего Бога». А мужи эти сказали блаженному через переводчика: «Мы — народ аварский. Поклоняемся изображениям различных четвероногих как богам, [а также] огню, воде и нашим битвам. Мы увидели, как в вашем войске все сияет светом и пришли в изумление,… и тотчас [наши жрецы] разбежались и сделались, словно воск, испытавший огня, и словно глина в воде». Так сказали пленные. А блаженный [Панкратий спросил] их через переводчика: «Хочет ли око вашего разума (τό όπτικόν τής διανοίας υμών πρόθεσιν), чтобы вы крестились и стали христианами?«А эти мужи в один голос заявили: «Пожалуйста, сделай нас христианами». И вот блаженный сказал Вонифатию: «Чадо, давай крестим их… Крестим этот народ»… А Вонифатий блаженному… «Не скрою от твоей святости, я призвал всех своих приближенных и велел им не говорить язычникам, какой мы религии, чтобы твоя святость во всем первой научила (μάθη) истине. Делай, как ты приказываешь». И вот блаженный [Панкратий] привел всех людей этого полона и, огласив, крестил их в холодной воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. И можно было увидеть невероятное зрелище: эти бессловесные люди (αλάλω εθνει), ныряя в воду и выныривая крещенными, разверзали усга (διανοίγεσθαι τας γλώσσας) свои и говорили: «Слава тебе, Христе Боже, истинный и прославленный свет». Крестил он все множество»[338].
В житийном рассказе, несмотря на сказочные подробности, явно присутствуют элементы, заимствованные из реальной жизни. Так, пленные могли принимать крещение не только под страхом смерти, но и добровольно — под впечатлением от военного превосходства христианской армии. Роль миссионера здесь минимальна: он никого ни в чем не убеждает, а лишь закрепляет успех, полученный в результате чуда. Самым же интересным является чудесное обретение «бессловесными» варварами человеческой, т. е., очевидно, греческой речи, без овладения которой византийский автор и не мыслит христианизации (см. ниже, с. 317)!
IIВ середине VII в. массовое переселение аваров и славян на имперскую территорию, экспансия ислама, экономический и социальный кризис в Империи, а также резкое сокращение ее территории привели к тому, что прежние способы государственной христианизации варваров вышли из употребления — впрочем, не окончательно: в 777 г. Лев IV принял в Константинополе булгарского хана Телерига, присвоил ему титул патрикия, женил на своей родственнице и «принял его при крещении из божественной купели»[339].
Ни о каких централизованных инициативах имперской власти по обращению племен мы помимо этого не слышим вплоть до IX в. Считается, что греческое христианство вообще прекратило свое распространение на два с лишним века[340]. В действительности же произошел временный упадок лишь той формы миссионерства, которая опиралась на дипломатию и вооруженную силу. Но именно это открывало больший простор для местной и личной инициативы[341], каковые, быть может, проявлялись и раньше, но обречены были остаться в тени грандиозных государственных предприятий. В какой степени способствовала миссионерству политика иконоборчества, которая могла вызвать эмиграцию иконопочитателей на периферию Империи, вопрос спорный. С одной стороны, мученик иконопочитания Стефан Новый призывает своих последователей бежать «в области по ту сторону Евксинского Понта, в епархии Зихии, от Боспора, Херсона и Никопсиса и до Готской котловины»[342], но с другой стороны, никаких свидетельств в пользу того, что эти беглецы активно миссионерсгвовали, нет[343]. Ясно во всяком случае, что для этого периода роль центральной власти в деле христианизации невелика.
Какие же свидетельства самостоятельного миссионерства у нас имеются? В кратком житии вышеупомянутого Стефана Нового рассказывается о том, какая судьба постигла учеников этого святого после его мученической смерти от рук иконоборцев в 764 г.: «Один, будучи заключен в Сосфений, подвергся наказанию в виде усекновения носа и ссылки в Херсон. [Там] он понял, что его собираются убить (μέλλων φονευθήναι) — и бежал в Хазарию, в которой и сделался епископом. Другой же, по имени Стефан, был сослан в Сугдею и, многим принеся пользу, обрел конец жизни. Точно так же умерли в ссылке оба Григория и многие другие»[344]. Как видим, агиограф рассматривает поездку безымянного иконопочитателя к варварам и миссионерство среди них как крайний шаг, вызванный угрозой для жизни! И все же перед нами — миссионерство по личному выбору, пусть и вынужденному обстоятельствами. Что же касается второго упомянутого в тексте персонажа, Стефана, то возникает неизбежное искушение сравнить его с другим знаменитым агиографическим персонажем, также Стефаном, епископом крымского города Сурож (совр. Судак)[345].
IIIЖитие Стефана Сурожского в том виде, как оно дошло до нас, представляет собой лишь далекий отсвет изначального текста. Подчас его вообще объявляют фиктивным[346]. Подобный гиперкритицизм не представляется обоснованным, а кроме того, для наших целей полезна даже фантазия на миссионерскую тему, поскольку она неизбежно отражает если не повседневную практику, то по крайней мере представления о том, как должна происходить миссионерская деятельность.
Житие Стефана в его греческом варианте (. BHG, 1671) очень кратко и не содержит интересной для нас информации. Несколько более полна армянская версия[347], которая до сих пор никак не использовалась для сопоставления с другими и которая, имея с ними много общего, все же разнится в важных деталях[348]. Стефан родился в Каппадокии; с семи лет читал Писание, в 18 лет оказался в Константинополе, где патриарх Герман, провидя в нем «великого просветителя», рукоположил его диаконом, а вскоре и священником[349]. Затем Стефан удалился в монастырь на Вифинском Олимпе. Тут в хронологии его жития наступает первая неувязка: когда ему исполнилось 35 лет, сказано в армянской версии, «умер епископ Сугдеи, и знатные люди города в сопровождении священников отплыли в Константинополь, к святому патриарху Герману и императору Феодосию, прозванному Андрамандин (Адрамитиец. — С, И.). Они попросили у императора и патриарха религиозного главу»[350]. Проблема в том, что Феодосий правил с 715 по 717 г., стало быть, Стефан должен был родиться ок. 680 г. — но тогда он, прибыв в 18 лет в столицу, не застал бы еще патриархом Германа, интронизованного лишь в 715 г. Если верить словам про 18 лет, то год рождения Стефана — как минимум 697. Видимо, автор армянской версии пошел на некоторое искажение хронологии, чтобы датировать рукоположение своего героя доиконоборческим временем, а на самом деле Стефан получил кафедру, вполне вероятно, и в самом деле из рук патриарха Германа, но императором тогда был уже Лев III, скажем, в 729 г. Если цифры армянского жития еще хоть как‑то могут быть согласованы между собой, то славянский вариант, который утверждает, будто Стефан приехал в Константинополь в 15 лет, пробыл там еще 15 лет, а потом провел в монастыре еще 30[351] — уже совершенно нарушает всякую логику, поскольку «продлевает» жизнь патриарху Герману. Однако вернемся к сюжету повествования.
Далее во всех версиях жития рассказывается о том, что разные люди предлагали разных кандидатов, и тогда ангел указал патриарху на «монаха Стефана, находящегося в такойто пустыни». Стефану явился ангел и, согласно славянскому изводу, сказал: «Велит ти… Господь… ити в Соурожь, оустроити церкви Господня оучениемъ твоимъ, собрати люди многы на верование Христово и спасти вся отъ капищныя прельсти, не точию се, но и дроугиа наоучи каатися»[352]. Несмотря на протесты святого (обычный житийный топос), его назначили «епископом митрополии Сугдеи»[353].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?"
Книги похожие на "Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Иванов - Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?"
Отзывы читателей о книге "Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?", комментарии и мнения людей о произведении.