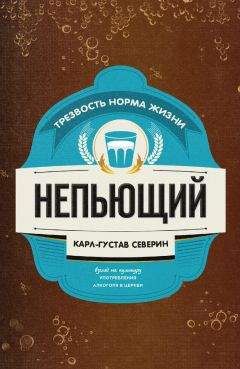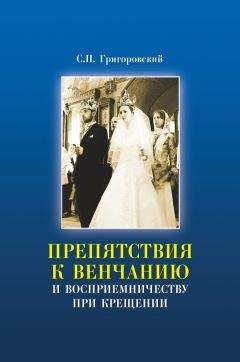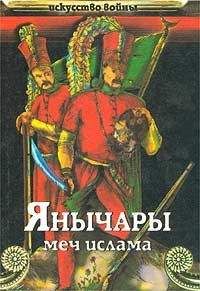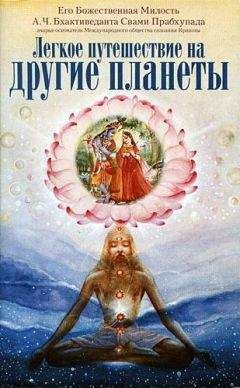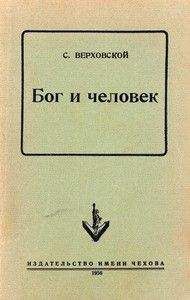Сергей Иванов - Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?
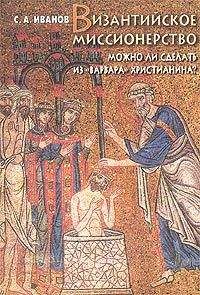
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?"
Описание и краткое содержание "Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?" читать бесплатно онлайн.
В чем состояли главные миссионерские достижения Византии? Современный человек ответил бы: в создании славянской азбуки и в крещении Руси. Между тем, ни один византийский источник IX в. ни словом не упоминает о Кирилле и Мефодии, точно так же как ни один грек, живший в X столетии, не оставил нам ни строки насчет крещения князя Владимира. Такое молчание века» не может быть случайностью, тем более что оно сопровождает и многие другие миссионерские предприятия Византии: в Эфиопии, Аравии, Персии. Тут кроется некая фундаментальная особенность в восприятии средневековыми греками окружающего мира и самих себя. Раскрытию этой специфики и посвящена данная монография.
В ней, впервые в мировой науке, прослежена история византийского миссионерства на всем ее тысячелетнем протяжении. Автор подробно рассматривает все христианизаторские предприятия греков, многие из которых до сих пор ускользали от внимания ученых.
Впервые греческая православная миссия рассмотрена с точки зрения не только «миссионируемого» (какую роль она сыграла в истории христианства в той или иной стране?), сколько миссионирующего (зачем нужно было византийцам обращать «варваров»?). Главный вопрос, на который автор ищет ответ: мог ли, в сознании византийца, «варвар» вообще стать христианином? Империя проиграла своим конфессиональным конкурентам мирное соперничество за Хорватию, Чехию, Боснию, Литву, Хазарию, Венгрию, Северный Кавказ — почему?
В 577 г. персы захватили химьяритское государство. Видимо, они не стали истреблять там христианство в целом, но, верные своей политике, разрешили тот его толк, который находился под строгим запретом в Византии. В данном случае это оказался афтартодокетизм (юлианизм). Во всяком случае, в VII в. Анастасий Синаит воспринимает политоним «наджраниты» (ΝαγρανΤται) как синоним для обозначения юлианистов, утверждая, что те и другие «имеют одну и ту же веру»[260]. Афтартодокетизм получил такое распространение в Аравии, что повлиял даже на зарождающийся ислам: 156–я айята 4–й суры Корана слово в слово повторяет «юлианистский» подход к проблеме крестной смерти Христа![261] Тем не менее византийцы не утеряли связей с тамошними христианами: согласно арабской легенде, епископ Наджрана в VII в. Абу–Харита, когда к нему прибыли посланцы пророка Мухаммеда, отказался принять ислам «по причине их [ромеев] обращения со мной, того, что они давали титулы, платили субсидии и почитали меня. Рум [Византия] глубоко враждебен к Пророку, и если бы я принял его, они забрали бы у меня все, что вы видите»[262]. В 787 г. на Соборе в Константинополе присутствовал некий «Петр, пресвитер химьяритов»[263].
Таким образом, Йемен представляет собой пример активной миссионерской деятельности византийцев далеко за пределами их собственных границ. Пример этот демонстрирует как организационную силу имперской церкви, так и ее оперативную слабость, неумение приспособить теоретические постулаты к конкретным обстоятельствам жизни варваров. Коль скоро миссионеры действительно навязывали химьяритам составленные для них «Законы», то неудивительно, что духовные плоды деятельности византийцев в Химьяре оказались недолговечны.
V. Арабы византийско–персидского пограничья
Если вмешательство Юстиниана в религиозную жизнь Южной Аравии преследовало стратегические цели, то крещение арабских племен (ср. выше, с. 51 сл.), соседивших с Империей на востоке, было связано с необходимосгью оберегать от них границы. К V в. в лимитрофной зоне между Византией и Ираном оформились два влиятельных кочевых союза — лахмиды и гассаниды. Лахмидский правитель Абу–Джафур дважды подвергался христианской агитации: впервые в 500 г. ему направил письмо монофисит Филоксен Маббугский, второй раз, в 513 г., — столь же страстный монофисит Севир Антиохийский (он был патриархом в Антиохии с 513 по 518 г.)[264]. В это время Империя все еще активно использовала монофиситов для миссионерской деятельности (ср. с. 82), но лахмиды, являвшиеся клиентами Персии, в основном принимали несторианство, запрещенное в Византии и потому находившееся под патронажем шахов. Когда в 524 г. монофисит Симеон из Бет–Аршама начал проповедовать в Хире, столице лахмидов, то местные жители пожаловались персам, что это — византийский агент, и арестовали его[265].
Западнее лахмидов кочевали гассаниды, которые, будучи клиентами Византии, приняли монофиситство[266]. В 542 г. монофиситский патриарх Александрии Феодосий, пребывавший в Константинополе, под покровительством императрицы Феодоры, по просьбе гассанидского князя Арефы рукоположил двух епископов для его владений: Якова Барадая и Феодора Аравийского, видимо, араба по происхождению. Феодор подчинялся патриарху Антиохии, но его епархия была «кочевой» — она охватывала hertha, т. е. становища бедуинов[267]. Это был страстный миссионер[268], о котором, однако, ни слова не сообщают греческие источники.
Другой проповедник, Ахудеммех, рукоположенный в 559 г., обращал в какое‑то нехалкидонское христианство (скорее всего монофиситство) арабские племена, «живущие в шатрах» в области Джазира. Его сирийское житие[269] содержит богатейший материал о миссионерстве среди варваров–кочевников, и оно безусловно заслуживало бы подробнейшего разбора— однако Ахудеммех был не византийским, а персидским подданным. Его плодотворная деятельность, закончившаяся мученической кончиной от рук персов в 575 г., никак не была связана с Византией (где к тому времени монофиситство начали жестоко преследовать), но сильно повлияла на монофиситскую церковь. В сравнении с Житием Ахудеммеха, наполненным мельчайшими деталями миссионерского быта, особенно хорошо заметно, сколь мало нам известно о греческих миссионерах. Из сирийского текста мы узнаём, как сильно опасался герой трудностей арабского языка[270] — греки практически ничего не сообщают о лингвистических затруднениях (ср. с. 304). Агиограф ставит читателя в известность о том, что Ахудеммех не пытался побудить кочевников к оседлости[271] — в то время как византийцы именно это считали своей главной задачей (ср. с. 309); Житие сообщает, что миссионер «собрал и привел священников из многих областей, мягкими словами и дарами он убедил и обласкал их с тем, чтобы в каждом роде поставить одного священника и диакона, он установил и дал имена церквам по именам шейхов их родов, для того чтобы они помогали во всяком деле и [со всякой] вещью, потребной для них»[272] — и о подобных маленьких миссионерских хитростях мы ни слова не узнаём от византийцев!
Отколовшиеся от монофиситов юлианисты (ср. с. 80) также вели активную миссионерскую деятельность среди варваров: имея базой Александрию, они в середине VI в. рассылали епископов в Персию, северную и южную Аравию, Эфиопию, Армению, Кавказскую Албанию[273]. Однако эта деятельность не пользовалась поддержкой Византии, даже когда ее власти заигрывали с монофиситами.
Вся вышеописанная миссионерская работа велась по преимуществу носителями сирийского языка, однако греческий играл важную роль в жизни варварской церкви. Крупнейшим христианским центром для арабов–кочевников являлся храм св. Сергия в Русафа (в совр. Сирии). Сергий был особым, специально «арабским» святым (он даже именовался в надписях «Сергий Варварский»[274]) — так вот, религиозная жизнь этого города, расположенного к востоку от эллинизированных центров Передней Азии, явно шла на греческом языке. От 1–й пол. VI в. дошла грекоязычная надпись, найденная в «базилике А» на развалинах Русафа: «По милости Божией епископ Сергий, родственник хорепископа (χωρεπισ(κόπου)) Марония, построил эту церковь, покрыл ее крышей, навесил двери и украсил всё мрамором»[275]. На стенах Русафа также есть греческие надписи. Например, «Да здравствует вера христианская! (νικα ή πίστις των Χριστιανών)»[276]. Вряд ли в Русафа приезжали природные носители эллинского наречия, но в качестве языка церкви там использовался именно греческий.
Кроме того, этот язык обладал в глазах арабских племенных вождей важным политическим звучанием. В той же Русафа имеется надпись, прямо выдающая свое негреческое происхождение: «Да здравствует удача Аламундара!». Она была сделана в 570–х гг. бедуинским князьком, союзником Византии. Для этого крещеного араба греческий язык надписи имел не столько информативное, сколько статусное значение— он подчеркивал его связь с Империей! Греческие надписи находят и еще дальше на восток от Русафа — все эти эпиграфические свидетельства оставлены арабами, использовавшими греческий в статусных целях, как «язык власти»[277].
Итак, эллинизм играл существенную роль в религиозной и политической жизни арабов–кочевников, однако греческие источники сообщают очень мало сведений на этот счет. Империя и тут больше внимания уделяла отвращению варваров от ереси, чем обращению их в христианство (ср. с. 51). Вот как выглядит рассказ Евагрия о событиях 580 г.: «Нааман, филарх враждебных скинитов [«обитателей шатров»], являвшийся [раньше] грязным язычником и лично приносивший человеческие жертвы своим демонам, пришел к святому крещению, а [статую] Афродиты из чистого золота расплавил на огне и раздал бедным. А [епископ] Григорий, по указанию императорской власти (νεύμασι της βασιλείας) объезжая пустынные области (τας πανέρημους… περινοστών) так называемого Лимеса, где имело наибольшую силу учение Севира, излагал (προυτίθει) церковные догматы и привел к Божией церкви многие крепости, деревни, монастыри и целые племена (φυλάς ολοκλήρους)»[278]. Как видим, если отвращение арабов от северианства есть предмет активных и сознательных усилий, получивших санкцию самого императора Тиверия[279], то обращение варвара в христианскую веру выглядит у Евагрия как абсолютно самопроизвольное и не предполагающее никакого внешнего вмешательства.
По мнению арабиста Спенсера Триминхэма, «византийцы и арабы никогда не понимали друг друга»[280], но последнее доверие к бедуинам греки утратили после окончательного запрета на монофиситство в Империи; гассаниды отказались отречься от этой «ереси», несмотря на активные усилия Константинополя насадить у них халкидонизм[281]. Все это привело к политическому разрыву. И тем не менее, несмотря на прекращение союзнических связей, арабы–христиане продолжали испытывать почтение к Византии. Так, уже в 637 г. последний правитель гассанидов Джабала бежал от своих соотечественников–мусульман в Константинополь[282]. У арабовкочевников из племени Таглиб христианство просуществовало еще три столетия после прихода ислама. Их епископ Георгий (640—724 гг.) переводил на арабский Аристотеля и писал схолии к трудам Григория Назианзина[283], однако ни о каких контактах этих христиан с Империей не известно.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?"
Книги похожие на "Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Иванов - Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?"
Отзывы читателей о книге "Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?", комментарии и мнения людей о произведении.