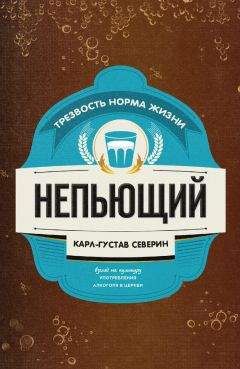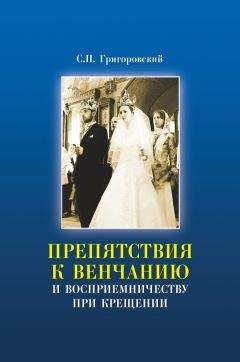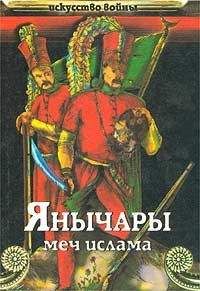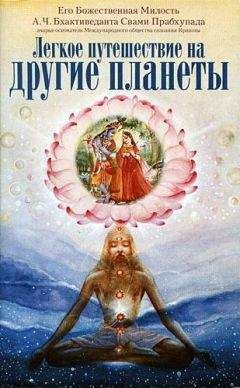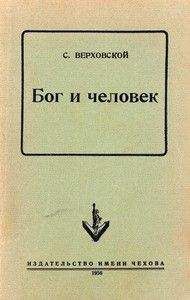Сергей Иванов - Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?
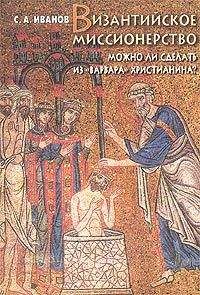
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?"
Описание и краткое содержание "Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?" читать бесплатно онлайн.
В чем состояли главные миссионерские достижения Византии? Современный человек ответил бы: в создании славянской азбуки и в крещении Руси. Между тем, ни один византийский источник IX в. ни словом не упоминает о Кирилле и Мефодии, точно так же как ни один грек, живший в X столетии, не оставил нам ни строки насчет крещения князя Владимира. Такое молчание века» не может быть случайностью, тем более что оно сопровождает и многие другие миссионерские предприятия Византии: в Эфиопии, Аравии, Персии. Тут кроется некая фундаментальная особенность в восприятии средневековыми греками окружающего мира и самих себя. Раскрытию этой специфики и посвящена данная монография.
В ней, впервые в мировой науке, прослежена история византийского миссионерства на всем ее тысячелетнем протяжении. Автор подробно рассматривает все христианизаторские предприятия греков, многие из которых до сих пор ускользали от внимания ученых.
Впервые греческая православная миссия рассмотрена с точки зрения не только «миссионируемого» (какую роль она сыграла в истории христианства в той или иной стране?), сколько миссионирующего (зачем нужно было византийцам обращать «варваров»?). Главный вопрос, на который автор ищет ответ: мог ли, в сознании византийца, «варвар» вообще стать христианином? Империя проиграла своим конфессиональным конкурентам мирное соперничество за Хорватию, Чехию, Боснию, Литву, Хазарию, Венгрию, Северный Кавказ — почему?
Феодорит не был случайным паломником у Симеонова столпа — в образовавшемся вокруг столпа монастыре Джебел–Симан он наверняка входил в особый персонал, ответственный за массовые обращения варваров[146]. И тем не менее писатель не скрывает своего гадливого отношения к дикарямнеофитам. По всей видимости, с ним солидарен и сам Симеон: ругательство «пес» является самым ходовым у подданных Империи в отношении арабов[147]. Таким образом, ранневизантийский святой не только не идет к варварам по собственной инициативе — он крайне пренебрежительно обращается с ними, когда они сами приходят к нему. И тем не менее поток неофитов не ослабевал. Причина состояла в том, что христианство ассоциировалось у самых разных народов с мощью и процветанием. И в этом смысле арабские вожди, передравшиеся из‑за столпничьего благословения, четче осознавали его политический вес, чем это понимал (или делал вид, что понимает) сам столпник[148].
Глава III. Отношение к миссии у Отцов церкви
Если язычники гордились «всемирностью» Римской империи, то ранние христиане — вселенским распространением своей церкви (см. выше, с. 22). Рим же казался им «Вавилонской блудницей». Однако в III в. ситуация начинает меняться. Уже у Оригена можно встретить идею о том, что Христос не случайно родился в правление Августа, когда Рим был на вершине своего могущества: по его мнению, единобожию должно соответствовать единовластие; Август, прекративший гражданские усобицы, тем самым облегчил апостолам задачу проповеди Евангелия по всей империи[149]. После обретения новой религией статуса государственной — претерпело дальнейшую эволюцию и отношение к самому Государству[150]. Идеология, намеченная Оригеном, была развита Евсевием, который «скрестил» христианство с эллинистической концепцей монархии[151]. Рим из гнусного Вавилона постепенно перевоплощался в провиденциальный Иерусалим, а соответственно этому менялся и взгляд на варваров. Конечно, традиция их превознесения, сложившаяся у раннехристианских апологетов, не исчезла и в творениях Отцов церкви. Многие из них находили у дикарей известные достоинства. Так, Златоуст хвалит их за простоту: «Послушай, какова жизнь обитающих в повозках скифов, какой образ существования имеют, по рассказам, кочевники. Вот так же, обходя вселенную, надо жить и христианам… уйдемте же в их шатры, дабы на деле научиться неприхотливости!»[152] Феодорит Киррский отмечает у варваров сметливость и восприимчивость к христианской проповеди: «Пусть никто не думает, будто эллины рождаются одними, римляне иными, и что египтяне, персы, массагеты, скифы созданы из другого теста… И среди варваров существует стремление к добродетели, и различие по языку не препятствует ее обретению. Ибо все провозвестники истины, я имею в виду пророков и апостолов, не сподобились эллинского сладкоречия, но, будучи преисполнены истинной мудрости, принесли Божье учение всем народам, и эллинским, и варварским… [Язычники] высмеивают (κωμωδοΰσι) имена [апостолов] как варварские — мы же оплакиваем неразумие язычников. Ведь они, даже видя, как варвароязычные (βαρβαροφώνους) мужи победили эллинское велеречие… — все равно не усовестились… Вы не сможете предъявить нам ни одного учителя [ваших языческих] догматов, мы же явственно демонстрируем силу апостольских и пророческих учений: ведь весь подлунный мир полон этими поучениями. И еврейская речь была переведена не только на греческий язык, но и на римский, и на египетский, и на персидский, и на индийский, и на армянский, и на скифский, и на савроматский — короче говоря, на все языки, какими продолжают пользоваться все народы… Наши рыбаки, мытари и кожевники убедили и эллинов, и римлян, и египтян, и попросту всякий народ… И научились они от тех, которых вы называете варвароязычными (βαρβαροφώνους). Всякий язык имеет одинаковый смысл — ведь у всех людей одна природа, их учителем является опыт. Ведь и у варваров можно найти и искусства, и науки, и воинскую доблесть… Номады, наши соседи, — я говорю о тех исмаилитах, что обитают в пустыне, — украшены разумом и совестью…»[153]. Панегирик Феодорита исполнен симпатии к варварам, но сама изначальная посылка обличает укоренившееся среди христиан презрение к ним.
Мы говорили о том, что еще у апологетов появляется мотив смягчения варварского нрава как цели катехизации (см. с. 26). Естественно, после превращения христианства в господствующую религию этот мотив многократно усилился. Тон и здесь задавал Евсевий Кесарийский (Eusebii Praeparationes evangelicae, I, 4, 6—9; Ejusdem Demonstrationes evangelicae, I, 6, 5), но за ним быстро последовали другие. Афанасий Александрийский пишет: «Кто из людей смог когда‑либо раньше забрести так далеко и пройти скифов, эфиопов, персов, армян, готов, людей, живущих вблизи Океана, тех, кто обитает по ту сторону Гиркании… а также египтян и халдеев?.. Им, суеверным сверх нормального и диким по своему нраву (αγρίους τοις τρόποις), Господь через своих учеников не только возвестил (έκήρυξε) о добродетели, но и убедил отказаться от дикости в нравах (την μέν των τρόπων άγριότητα μεταθέσθαι)… Они отвергли жестокие убийства и более не жаждут войн (ούκ ετι πολέμια φρονοΰσι)»[154]. У Кирилла Александрийского читаем: «Грубый (αγροικον) нрав языцев, воспитанных не в законе, живущих неприхотливо и дико (άπημελεμένως καί άγρίως), переменился на более кроткий — все это случилось от Христова поучения»[155]. По словам историка Созомена, некоторые варвары, «давно приняв христианскую веру, переменили нрав на более мягкий и разумный (επί τό ήμερώτερον καί λογικόν μεθηρμόσαντο)» (Sozomeni II, 6).
Отношение Отцов церкви к варварам хорошо суммировано в работе Г. Подскальски[156]. По его словам, уже Евсевий Кесарийский смотрит на варваров скорее как на врагов, чем как на потенциальный объект христианизации. При этом Григорий Назианзин и Иоанн Златоуст не разделяют такого отношения и пытаются следовать заветам о равенстве всех народов перед Христом. На стороне варваров выступают Созомен, Кирилл Александрийский, Феодорит, чьи пассажи в их защиту напоминают Златоуста. И тем не менее после него, по мнению Подскальски, как интерес к варварам, так и миссионерский пыл стали угасать[157]. Подытоживая результаты процесса, начавшегося еще в III столетии, можно констатировать: к V в. христианский универсализм окончательно соединился с имперским[158].
IIЧто говорят Отцы церкви о миссионерстве? Остановимся прежде всего на высказываниях Иоанна Златоуста. «Если двенадцать человек «заквасили»(намек на евангельские слова о «малой закваске», которая «квасит все тесто“. — С. И.) всю вселенную, — восклицает он в одной из проповедей, — подумай, сколь велика наша никчемность, если мы, пребывая в таком количестве, не в состоянии исправить оставшихся — а ведь в нас должно было хватить закваски на тысячи миров»[159]. Таких призывов к миссии у варваров в его сочинениях рассыпано множество[160].
Будучи константинопольским архиепископом, Иоанн приветствовал создание литургии на готском языке и учреждение храма для готов, живших в Константинополе. Им была написана специальная гомилия для произнесения в готской церкви св. Павла в столице Империи[161]. О том, до какой степени необычен был такой шаг Златоуста, с каким недоброжелательством он ожидал столкнуться по этому поводу, свидетельствует прежде всего оправдывающийся тон проповеди: «Пусть никто не считает позором церкви то, что мы подготовили варваров… Это — украшение церкви!.. Сам Господь наш, придя в мир… первыми призвал варваров, и не просто варваров, но к тому же магов, известный символ нечестия… Итак, не будем считать позором, что в церкви находятся варвары, но — величайшей красой! (…) Звероподобнейших из людей [вера] приведет в такую кротость… что они сделаются одним стадом с обыкновенными мирными людьми. Вы видите сегодня, что самые варварские из людей стоят рядом с [Христовыми] овцами в церкви»[162]. Конечно, отчасти такой тон объясняется напряженными отношениями, сложившимися в тот момент между населением Константинополя и готскими наемниками. Но при всем том, что шаг Иоанна нельзя не признать смелым, и именно на фоне такой его смелости хорошо заметно: «проповедь Хризостома к готам не лишена того ощущения превосходства, которого он пытается избежать»[163]. Ужас перед варварским миром, живший в душе «интернационалиста» Иоанна точно так же, как в душе любого подданного Империи, выдает себя в его описании страданий библейского Иосифа, «оказавшегося не среди соотечественников, но среди чужеязычных варваров… скорее зверей (αύτοθηρίοις), чем людей»[164].
Иоанна Златоуста считают первым настоящим пропагандистом миссии к варварам[165]. Известно, что он обращался с призывами к монахам идти проповедовать, объясняя, что «чем сидеть дома, гораздо лучше и полезнее отправляться в странствие (αποδημίαν άποδημειν)»[166]— однако нельзя понять, имел ли он в виду экспедиции за пределы Империи. Из писем самого Златоуста известно о его евангелизаторской деятельности в окраинных, но все же имперских областях[167]. Епископ Константинопольский оказывал попечение церквам в Персии и Готии[168] —но возникли они до него. Ни один из имеющихся у нас источников ни слова не сообщает об организации Златоустом заграничных миссий[169].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?"
Книги похожие на "Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Иванов - Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?"
Отзывы читателей о книге "Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?", комментарии и мнения людей о произведении.