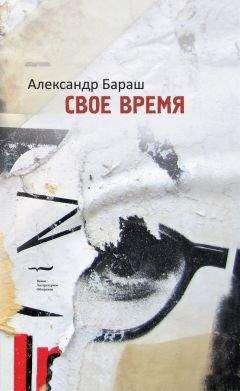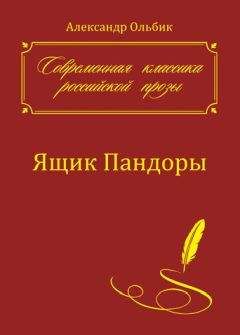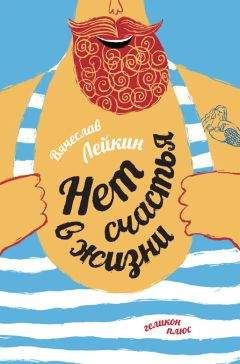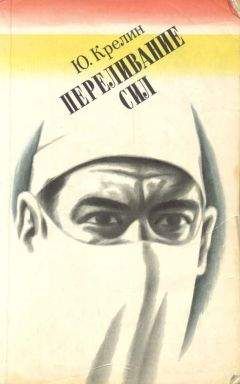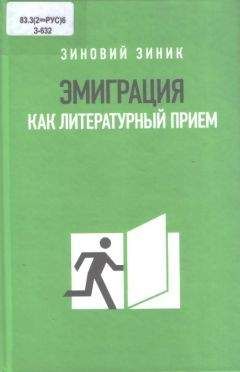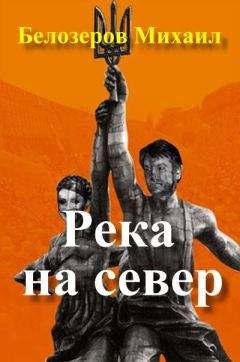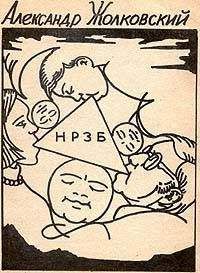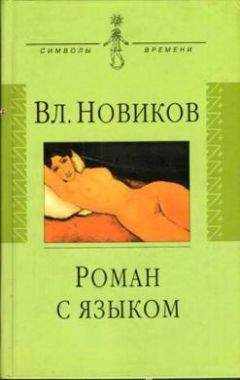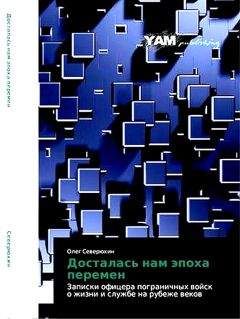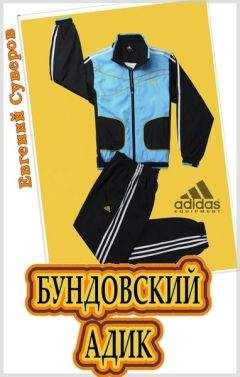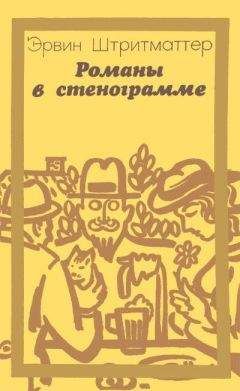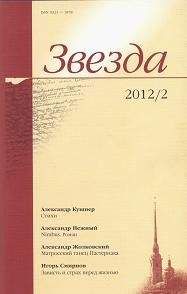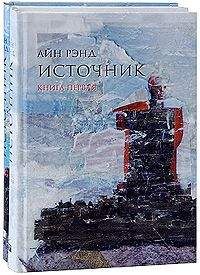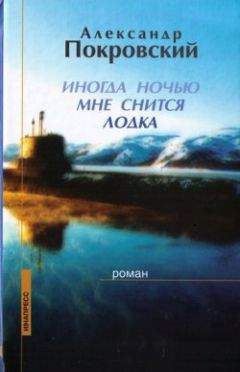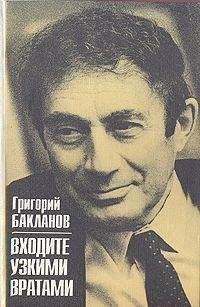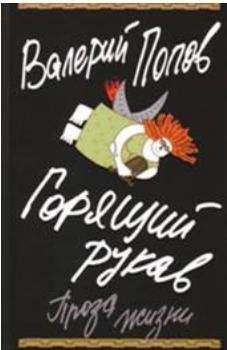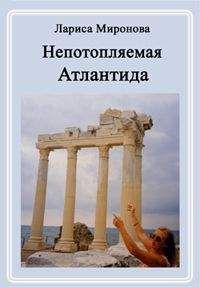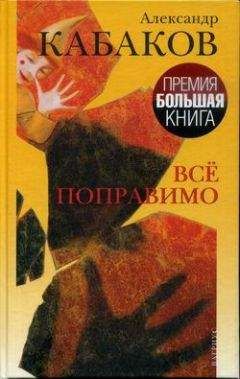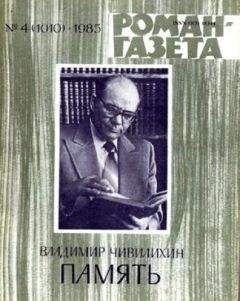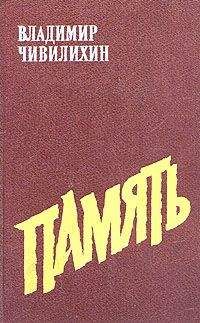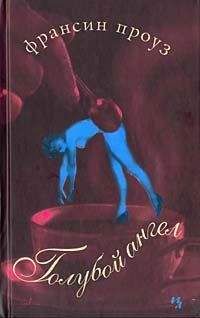Александр Жолковский - Эросипед и другие виньетки
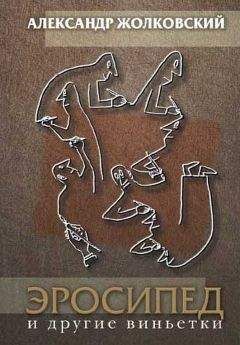
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Эросипед и другие виньетки"
Описание и краткое содержание "Эросипед и другие виньетки" читать бесплатно онлайн.
Книга невымышленной прозы известного филолога, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, состоит из множества мемуарных мини-новелл (и нескольких эссе) об эпизодах, относящихся к разным полосам его жизни, — о детстве в эвакуации, школьных годах и учебе в МГУ на заре оттепели, о семиотическом и диссидентском энтузиазме 60-х−70-х годов, об эмигрантском опыте 80-х и постсоветских контактах последних полутора десятилетий. Не щадя себя и других, автор с юмором, иногда едким, рассказывает о великих современниках, видных коллегах и рядовых знакомых, о красноречивых мелочах частной, профессиональной и общественной жизни и о врезавшихся в память словесных перлах.
Книга, в изящной и непринужденной форме набрасывающая портрет уходящей эпохи, обращена к широкому кругу образованных читателей с гуманитарными интересами.
Полки вёл…
У Ильфа и Петрова есть фельетон «Рождение ангела» — на тему о коллективной доводке киносценария по линии положительного героя — с незабываемой фразой: «Полки вел Голенищев-Кутузов 2-й».
…В 1970 году в журнале «Народы Азии и Африки» появилась моя статья со структурным анализом одного сомалийского текста. Этому предшествовало ее одобрение главным редактором И. С. Брагинским (наложившим ленинского типа резолюцию: «Дать, снабдив марксистской врезкой От редакции») и последующее медленное продвижение в печать (структурализм был внове — мое появление в редакции сопровождалось драматическим шепотом: «Структуралист пришел!»). Но вот, наконец, мой редактор Лева К. сказал, что в определенный день, точнее, вечер на редколлегии будет решаться вопрос о сдаче номера в типографию и мне желательно быть под рукой на случай, если возникнут вопросы.
В назначенный час я прохаживался по коридору редакции, время от времени подглядывая в щелку за происходившим в огромном кабинете главного. Самого Брагинского не было, и заседание вел его заместитель Г. Г. Котовский — сын легендарного комбрига, как объяснил мне выглянувший в коридор Лева. Ждать пришлось долго — каждый материал обсуждался со всей подробностью. Впрочем, проблематичными, видимо, считались лишь две статьи, ибо, кроме меня и пожилого человека с усталым, чем-то знакомым, желтым, татароватым лицом, в коридоре никого не было.
Меня на ковер так и не пригласили, но о потраченном времени жалеть не пришлось. Во-первых, статья пошла в номер без дальнейших разговоров, а во-вторых, когда Лева вышел позвать в кабинет другого, явно более спорного автора, он почтительно назвал его Львом Николаевичем, и я сообразил, что это был очень похожий на мать сын Ахматовой и Гумилева. Его лагерные мытарства остались к тому времени давно позади, а собственная репутация шовиниста-этногенетика только набирала силу, и он все еще ходил в диссидентах; публикация в «Народах Азии и Африки» была, по-видимому, нужна ему и отнюдь не гарантирована. Подстрекаемый любопытством, я проскользнул в дверь вслед за ним.
Полки вел Котовский 2-й. В противоположность брутальному бритоголовому гиганту, созданному усилиями Каплера, Файнциммера и Мордвинова (и его, вероятно, еще более жуткому прототипу), он оказался вальяжным, с пухлыми щечками и аккуратной прической, советским джентльменом, среднего роста, при галстуке и в замшевых туфлях. Ничто в его вкрадчивых манерах не наводило на мысль о конском топоте, сабельных атаках, тачанках, погромах, трупах. Мягкими, дипломатично закругленными фразами он заговорил об интереснейшей статье почтеннейшего Льва Николаевича. Я все ждал, когда же он совершит свой выпад, и после изматывающих комплиментарных подступов наконец дождался.
— Чего мне, может быть, недостает в статье многоуважаемого Льва Николаевича, — все с той же воркующей ласковостью сказал он, — это четкого применения классовых, историко-материалистических критериев. Возможно, оно просто недостаточно бросается в глаза при первом чтении, и Льву Николаевичу, я думаю, самому представится желательным дать эти моменты более, так сказать, выпукло.
Гумилев заговорил с таким невозмутимым спокойствием, что я ему немедленно позавидовал. За его преувеличенной восточной любезностью стояла не только бескомпромиссная, ахматовской закалки твердость, но и вызывающая, пусть символическая, апелляция к насилию, в которой сказывался то ли киплинговский налет, унаследованный с отцовскими генами, то ли собственный зэковский опыт.
— Благодарю вас, глубокоуважаемый Григорий Григорьевич, за незаслуженно лестное мнение о моем скромном опусе. И вы абсолютно правы насчет классового подхода, каковой в нем, действительно, не нашел применения. Дело в том, что меня интересуют исторические закономерности более общего порядка. Позволю себе совершенно отвлеченный пример. Если, скажем, взять какого-нибудь человека, поднять его на самолете на высоту в несколько тысяч метров над каким-нибудь пустынным местом и сбросить оттуда вниз, то можно с более или менее полной достоверностью предсказать, что, ударившись о песок, он разобьется насмерть. И для того чтобы прийти к этому научному выводу, вовсе не потребуется учет классовой принадлежности этого человека и социальных взаимоотношений между ним и владельцами самолета. Так что я не думаю, что мой текст нуждается в каких-либо добавлениях, разве что вы, Григорий Григорьевич, настаивали бы на включении в него этого небольшого мысленного эксперимента.
Котовский настаивать не стал. Это было неудивительно, ибо как раз незадолго перед тем в мировой и советской прессе появилось сообщение (которое никак не могло пройти незамеченным в среде востоковедов) о казни каких-то преступников в Саудовской Аравии методом сбрасывания с самолета, сообщение, политически крайне неудобное с официальной советской — подчеркнуто проарабской — точки зрения. Обсуждение статьи на этом закончилось, и она появилась в журнале без изменений. Таков был исход уникального династического матч-реванша.
Она его любит
Чтобы дать представление о концептуальной пропасти между традиционным советским литературоведением и новаторским тогда структурализмом, стоит кратко описать историю публикации в Серии литературы и языка «Известий АН СССР» моего разбора «Я вас любил…» (1977). Доброжелатели, причастные к редакции журнала, устроили мне встречу с его главным редактором и главным официальным пушкиноведом академиком Д. Д. Благим. Перспективы переговоров с ним, несмотря на мрачные аспекты этой фигуры, представлялись мне не совсем безнадежными, главным образом, ввиду уважения, которое я питал к его ранней, «социологической», книге о Пушкине (1931), хотя у моих коллег-семиотиков оно вызывало снисходительную усмешку.
Аудиенция состоялась летним вечером у Благого на даче. Он уже ознакомился с моей рукописью, но ее обсуждение вылилось в разговор глухих. Там, где я акцентировал амбивалентности, инварианты и структурные изоморфизмы с другими пушкинскими текстами (например, 8-й главой «Онегина», «Каменным гостем» и т. п. — в духе новооткрытой тогда работы Якобсона о мотиве статуи в творчестве Пушкина), Благой держался сугубо житейских категорий.
— Ну да, конечно, ведь она же [Татьяна] его любит, — с чувством повторял он.
Дело с публикацией статьи застопорилось, и снова пришло в движение лишь после смерти Благого и перехода «Известий… СЛЯ» в руки партийного, но либерального и порядочного Г. С. Степанова. При активном содействии зав. редакцией В. И. Левина, Степанов стал «пробивать» мою статью на редколлегии. К моему удивлению, процесс оказался трудным, многоступенчатым; но, в конце концов, он увенчался успехом. Подчеркну, что ничего идеологически спорного или хотя бы эзоповского в статье нет. Сопротивление вызывал именно непривычный структурный дискурс — чуждый традиционалистам, наверно, не менее, чем многим структуралистам сегодня чужд дискурс деконструкции.
В структурном же лагере, напротив, царила убежденность в полной и окончательной разрешимости всех задач литературоведения «точными» методами. Помню, как (году, вероятно, 1968-м или 1969-м) Б. А. Успенский сообщил мне, что только что отдал в печать свою «Поэтику композиции» (1970) и больше заниматься поэтикой не намерен, ибо все основное теперь уже сделано. Незабываема также фраза, которой В. К. Финн, классик советской информатики, со скромно-торжествующей улыбкой закончил один из своих докладов, блиставших виртуозным применением математической логики:
— …И тогда поэтика, подобно квантовой механике, замкнется как сугубо формальная теоретическая дисциплина.
Чем хуже, тем лучше
В 1968 г. Юра Щеглов хотел поехать на Симпозиум по семиотике в Варшаву, но в Институте Восточных Языков, где он преподавал язык хауса, ему не дали характеристики, мотивируя это тем, что он слишком мало внимания уделяет общественной работе. Это была стандартная формула, означавшая, что начальство не считает сотрудника «идеологически выдержанным», т. е. попросту, «своим»; характеристика же требовалась даже при поездке по частному приглашению. Поехать Юра, собственно, не очень и стремился, но отказ он воспринял как оскорбление, и на другой день я встретил его около кабинета ректора ИВЯ Ковалева со следующим заявлением, написанным зелеными чернилами, в руках:
«Прошу освободить меня от работы в ИВЯ. Моя просьба вызвана намерением сосредоточиться в дальнейшем исключительно на общественной работе».
Текст я оценил, но все-таки убедил Юру облечь свой протест в более традиционные формы. В результате, с начальством был достигнут компромисс, и в следующий раз, через год или два, характеристику выдали.
Перед поездкой, на этот раз совершенно уже частной, Юра стал советоваться со мной, бывавшим в Польше несколько раз, и я, среди прочего, сказал, что следовало бы повидать директора Института Литературных Исследований профессора Марию-Ренату Майенову, столько сделавшую для советских коллег-семиотиков, в том числе и для нас с ним. Видно было, однако, что эта перспектива (как и вообще любые предписываемые долгом контакты) ему не очень улыбается.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Эросипед и другие виньетки"
Книги похожие на "Эросипед и другие виньетки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Жолковский - Эросипед и другие виньетки"
Отзывы читателей о книге "Эросипед и другие виньетки", комментарии и мнения людей о произведении.