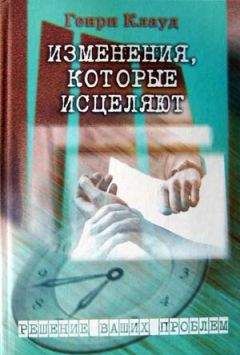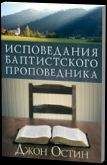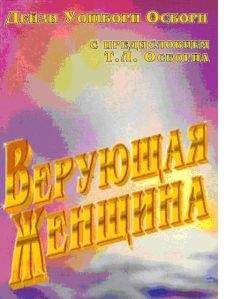Сергей Хоружий - После перерыва. Пути русской философии

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "После перерыва. Пути русской философии"
Описание и краткое содержание "После перерыва. Пути русской философии" читать бесплатно онлайн.
С. С. Хоружий. После перерыва. Пути русской философии.
Здесь только первая часть — О пройденном: вокруг всеединства
Источник: http://www.synergia-isa.ru
— идеи античного символизма: П.А. Флоренский (позднее учение), А.Ф. Лосев.
Впрочем, как всякая схема, эта классификация приблизительна и отчасти условна. В особенности же, условен последний пункт, ибо и философия Лосева, и поздняя «конкретная метафизика» Флоренского весьма самостоятельны, их истоки сложны, а античный символизм — широкое русло довольно расплывчатых очертаний.
Следует, кроме того, добавить, что многие из русских философов, хотя не создали собственных систем всеединства, однако же по своим позициям стояли к метафизике всеединства весьма близко. На первом месте тут должен быть назван, безусловно, князь С.Н. Трубецкой, ближайший друг и сподвижник Соловьева. Как мы говорили в предыдущей статье, он внес заметный вклад в развитие учения о соборности, вскрывая и отстаивая соборную природу сознания. Тем самым, он неизбежно формулировал и определенную трактовку всеединства, в которой воспринимал основные положения Соловьева. Вплотную примыкает к метафизике всеединства и Л.М. Лопатин, еще один из круга соловьевских друзей и собеседников. (В построениях Лопатина, однако, интуиция всеединства связана, более чем с Соловьевым, с монадологией Лейбница.) Можно было бы упомянуть и еще немало имен — Эрна, Аскольдова, других...
Мысль Соловьева жила, развиваясь напряженно и драматично. В ней справедливо выделяют разные стадии; они отличны между собой во многом, и надо, прежде всего, сказать, что метафизическая система, построенная им в ранних работах семидесятых годов, вскоре разочаровала его сухостью и формальностью своих конструкций, а зрелый пересмотр этой системы, начавшийся после продолжительного отхода от проблем онтологии, оборвала его смерть уже на первых шагах. И все же его философские позиции всегда сохраняли некое неизменное ядро, в котором основу—или ядро ядра, как любил говорить Флоренский — составляли интуиции всеединства и Софии. Мы скажем о них, по необходимости, сжато и упрощенно (в чем, впрочем, может быть своя польза: пространных изложений метафизики Соловьева существует гораздо больше, чем ясных очерков ее внутренней структуры).
С первых же шагов философского становления Соловьева, всеединство — его девиз, его формула Высшего Начала. Уже в своих juvenilia, «Мифологический процесс в древнем язычестве» (1873), он пишет о том, что языческие боги «лишь разнообразные выражения всеединого — to pan»[20]. А очень вскоре, через 3—5 лет, всеединство для него уже — главное орудие построения всеохватной философской системы, универсальный конструктивный принцип. Подобная роль всеединства, как и в целом его трактовка в философии Соловьева, тесно связаны с основным рабочим методом этой философии — методом «критики отвлеченных начал». Соловьев пересматривает всю систему категорий, выработанных философским сознанием, объявляя эти категории «отрицательными» или «отвлеченными» началами. Они выражают не истинный философский предмет — то, что есть, сущее, — а только его предикаты, и при этом неизбежно несут в себе тенденцию к «гипостазированию», обособлению из общей связи всех предикатов и свойств предмета и утверждению самих себя на место последнего. Критика должна разоблачить эту тенденцию и построить философию как систему положительных начал (жизненных и религиозных), путем особого препарирования начал отвлеченных — их «органического синтеза», снимающего их гипостазированность. В частности, по Соловьеву, и бытие, когда оно отождествляется с Абсолютным, выступает как отвлеченное начало; его должный статус — предикат сущего, ибо «бытие есть отношение между сущим как таким и его сущностью»[21]. Абсолютное, Бог — это не бытие, а сущее (Абсолютно-Сущее, Сверхсущее); а так как Абсолютное является всеединым, то истинное Его имя — Всеединое Сущее. Всеединство же как таковое — это Его сущность, которая сверхбытийна. Когда же всеединство трактуется как бытийный принцип, оно также становится отвлеченным началом; в этом случае оно есть «отрицательное всеединство» или же «чистое бытие, равное чистому ничто... принцип, с которым нельзя ничего начать и из которого ничего нельзя вывести»[22]. По Соловьеву, именно это бесплодное всеединство — исходное начало гегелевой логики, «принцип Гегеля». И в противоположность ему, он утверждает «положительное всеединство», которое и есть сущность Абсолютного как Всеединого Сущего. Далее, привычным для христианского умозрения образом, догмат троичности, трехипостасного строения Абсолютного, оказывается для Соловьева стимулом и ориентиром для философского усмотрения троичности в самых разных областях и предметах. Бытие у него имеет три модуса (воля, представление, чувство), деятельность—три главные сферы (жизнь, знание, творчество), и само положительное всеединство — также три модуса или образа, которые суть Благо, Истина, Красота: «если в нравственной области (для воли) всеединство есть абсолютное благо, если в области познавательной (для ума) оно есть абсолютная истина, то осуществление всеединства... в области материального бытия есть абсолютная красота»[23]. В итоге, все философские разделы — не только онтология, но равно и этика, гносеология, эстетика — подчиняются принципу всеединства. Оно принимает особую форму в каждом из них и выступает как принцип единства всей философской системы. Именно эта функция всеединства и оказывается здесь на первом плане: как и у позднего Шеллинга, не столько продумыванье всеединства, сколько его эксплуатация в качестве, так сказать, универсальной философской отмычки. Можно предполагать, что как раз эти-то свойства ранней философии Соловьева, ее форсированный рейд к всеохватности при недостаточном проникновении вглубь философского предмета, и неудовлетворяли его впоследствии...
Из сказанного выше можно увидеть, что Соловьев отделяет познание от творчества, и собственной сферой или стихией последнего у него служит, по преимуществу, творчество художественное, творчество красоты и в красоте. Для искусства он и тон находит особый: это — «великое и таинственное искусство, вводящее все существующее в форму красоты»[24]. Этот эстетический акцент — важная особенность его метафизики, ставшая потом родовой чертой всей соловьевской традиции в русской мысли. Но следует подчеркнуть, что эта черта, этот эстетизм русской мысли — далеко не эстетство. В своих корнях он имеет несомненную религиозную окраску: как ясно и из приведенных слов Соловьева, самым важным видится то, что в искусстве, в отличие от познания, действенно и материально осуществляется преображение мира, его «введение в форму красоты». В отличие от познания, художество может пониматься как теургия; и именно к такому его пониманию всегда тяготела русская религиозная мысль. И в свете этого мы начинаем понимать, как и отчего в философию Соловьева, а затем и его продолжателей, входит знаменитая мифологема Софии Премудрости Божией.
Напомним основоположный ветхозаветный текст, вводящий эту мифологему (Притч. 8). Говорит София: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий своих, искони... Я родилась... когда еще Он не сотворил земли... когда Он уготовлял небеса... утверждал вверху облака... полагал основания земли: тогда я была при Нем художницею». В этом тексте творение мира Богом — художественный акт, и делает его таковым София — «художница», принцип красоты в Боге. В аспекте бытийной структуры, аспекте онтологическом, София не есть нечто отличное от всеединства. Обычно с ней соотносятся все те же панентеистические философемы—мир в Боге, мировая душа и т. п.; что же до Соловьева, то с самого начала, впервые говоря о Софии в Седьмом из своих Чтений о богочеловечестве, он ее определяет как род всеединства в Боге. Во Христе как «божественном организме» он усматривает два рода единства множества: единство динамическое и статическое; с одной стороны, «действующее единящее начало» или «единство производящее», а с другой — «единство произведенное», «единство в явлении», «множественность как сведенную к единству, как определенный образ этого начала»[25]. Как первое единство, Христос есть Логос, как второе — София. От этого исходного определения Соловьев легко приходит к традиционным формулам софийной мистики: София — «душа мира», «тело Божие», «божественное человечество Христа», «идеальное, совершенное человечество, вечно заключающееся в цельном божественном существе или Христе»[26]. Подробности его софиологии сейчас не интересуют нас; но общая ее роль понемногу уже видна. Метафизика всеединства, развиваемая sub specie Sophiae, как софиология, имеет, во всяком случае, две отличительные черты: она включает в себя значительный мистико-богословский элемент, и она выдвигает вперед элемент эстетический, утверждает присутствие в Абсолютном начала красоты. Поэтому она в большей мере, чем известные западные типы философии всеединства, давала простор для выражения мистического опыта и художественного чувства. И то и другое было первостепенно важно для Соловьева, который, бесспорно, был мистиком и художником par excellence — и уже потом только философом-систематиком.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "После перерыва. Пути русской философии"
Книги похожие на "После перерыва. Пути русской философии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Хоружий - После перерыва. Пути русской философии"
Отзывы читателей о книге "После перерыва. Пути русской философии", комментарии и мнения людей о произведении.