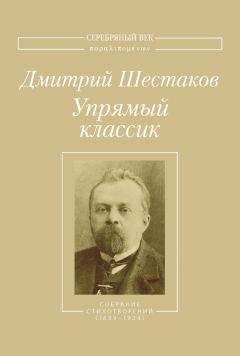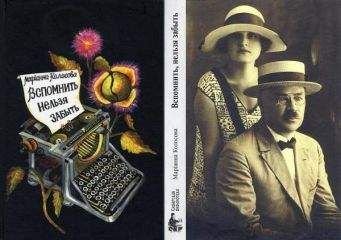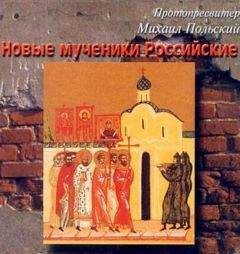Т. Толычова - Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества"
Описание и краткое содержание "Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества" читать бесплатно онлайн.
Полное собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества / Составление, примечания и комментарии А. Ф. Малышевского. — Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 2006. — 656 с.
Издание полного собрания трудов, писем и биографических материалов И. В. Киреевского и П. В. Киреевского предпринимается впервые.
Иван Васильевич Киреевский (22 марта/3 апреля 1806 — 11/23 июня 1856) и Петр Васильевич Киреевский (11/23 февраля 1808 — 25 октября/6 ноября 1856) — выдающиеся русские мыслители, положившие начало самобытной отечественной философии, основанной на живой православной вере и опыте восточнохристианской аскетики.
В четвертый том входят материалы к биографиям И. В. Киреевского и П. В. Киреевского, работы, оценивающие их личность и творчество.
Все тексты приведены в соответствие с нормами современного литературного языка при сохранении их авторской стилистики.
Адресуется самому широкому кругу читателей, интересующихся историей отечественной духовной культуры.
Составление, примечания и комментарии А. Ф. Малышевского
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»
Note: для воспроизведения выделения размером шрифта в файле использованы стили.
В Московском архиве встретились они с Титовым и с братьями Веневитиновыми. Письма В. П. Титова к И. В. Киреевскому говорят, по-видимому, о мелочах, но в них рисуется его характер — живой, бодрый, привлекательный — и его горячая любовь к Киреевскому, не ослабленная ни долговременной разлукой, ни блестящей дипломатической карьерой Титова. Недаром Петр Васильевич Киреевский, в письме к брату из Петербурга в 1835 году по поводу приема, оказанного ему там друзьями Ивана Васильевича, говорит: «Особенно в холодной и лаконической заботливости Титова есть что-то истинно трогательное: вот человек, каких я люблю! И это, может быть, именно тот из друзей твоих, который всех глубже тебя любит».
Таким же верным другом был Алексей Владимирович Веневитинов, доказавший это в последние дни жизни Ивана Васильевича и потом нежной заботливостью о детях его после его смерти. Его безвременно умерший брат Дмитрий Владимирович был руководителем своих сверстников в изучении германской философии. Первые шаги Дмитрия Веневитинова на поприщах поэзии, философии и критики были настолько широки и смелы, что трудно сказать теперь, по какому из этих путей пошел бы он окончательно, но что смерть его была тяжелой утратой для России — это несомненно. В своем дружеском кружке Веневитинов оставил навсегда глубокий след и благоговейное воспоминание. Из других архивных юношей назовем талантливого и несколько беспорядочного Соболевского, впоследствии известного библиографа; его друга И. С. Мальцова, впоследствии управляющего Министерством иностранных дел и одного из первых по времени русских фабрикантов; наконец будущего профессора русской словесности С. П. Шевырева и воспитателя Ф. И. Тютчева — С. Е. Раича. Из числа не служивших в Архиве воспитанников Московского университета к этому кружку примкнули М. П. Погодин, ботаник и собиратель малороссийских песен М. А. Максимович, переводчик «Вертера», Н. М. Рожалин и князь В. Ф. Одоевский. Несколько позже Иван Васильевич сошелся с графом Е. Е. Комаровским и с поэтом Е. А. Баратынским; последнего он считал одним из самых дорогих своих друзей. Через Веневитиновых к тому же кружку принадлежали их товарищи по ученью братья Хомяковы. Из них особенно дружен с Д. В. Веневитиновым был старший, Федор, служивший в Петербурге, младший же, Алексей Степанович, также мало живший в эти годы в Москве, сделался заметен в кругу товарищей несколько позже.
Такова была умственная обстановка, в которой вращались братья Киреевские. Насколько можно судить по ранним письмам Кошелева, первой наукой, обратившей на себя внимание И. В. Киреевского, была политическая экономия: по крайней мере летом 1822 г., во время подготовления к экзамену, он писал какое-то сочинение о торговле, и Кошелев собирался много спорить с ним об этом предмете. Немного позже Кошелев советует Киреевскому заняться изложением Адама Смита, которого он много читал. Но уже в следующем, 1824, году Иван Васильевич увлекся германской философией в товарищеском кружке Веневитинова и князя Одоевского, издавшего сборник «Мнемозина». «В то время, — говорит Кошелев в своих записках, — кружок совершенно предался изучению умозрительной философии и считал христианское учение годным только для народных масс. Особенно высоко ценило общество Спинозу, творения которого оно ставило выше Евангелия и других Священных Писаний. Председателем общества был князь Одоевский, а главным оратором Дм. Веневитинов, который своими речами приводил в восторг и заставил Киреевского выразиться, что Веневитинов рожден более для философии, чем для поэзии». Общество окончило существование после 14 декабря 1825 г. Вскоре Одоевский, а за ним Кошелев и Веневитинов переехали в Петербург, Киреевский продолжал заниматься философией, и в июне 1826 года Кошелев пишет ему: «С нетерпением желаю прочесть твое сочинение о добродетели. Предмет еще мало обработанный с той точки, на которую ты его поставил — на трансцендентальный идеализм, единственное любомудрие, могущее развернуть нам мысль добра».
Итак, двадцатилетний И. В. Киреевский был совершенно чужд христианского мировоззрения в науке. Петр Васильевич, как кажется, расходится в этом с горячо любимым братом и, напротив, нашел единомышленника в Хомякове, который возвратился в Москву в 1827 году. Но о занятиях и взглядах Петра Васильевича за это время мы, к сожалению, не имеем точных известий. Кошелев и Титов, переселившись в Петербург, стали звать туда И. В. Киреевского. В 1827 году он пишет первому:
Ты говоришь, что сообщение с людьми необходимо для нашего образования, и я совершенно согласен, но ты зовешь в Петербург. Назови же тех счастливцев, для сообщества которых должен я ехать за тысячу верст и там употреблять большую часть времени на бесполезные дела. Мне кажется, что здесь есть вернейшее средство для образования: это возможность употреблять время, как хочешь. Не думай, однако же, что бы я забыл, что я русский, и не считал себя обязанным действовать для блага своего отечества. Нет! Все силы мои посвящены ему. Но мне кажется, что вне службы — я могу быть ему полезнее, нежели употребляя все время на службу. Я могу быть литератором — а содействовать к просвещению народа не есть ли величайшее благодеяние, которое можно ему сделать? На этом поприще мои действия не будут бесполезны, я могу это сказать без самонадеянности. Я не бесполезно провел мою молодость и уже теперь могу с пользой делиться своими сведениями. Но целую жизнь имея главной целью образовываться, могу ли я не иметь веса в литературе? Я буду иметь его и дам литературе свое направление. Мне все ручается в том, а более всего сильные помощники, в числе которых не лишнее упомянуть о Кошелеве, ибо люди, связанные единомыслием, должны иметь одно направление. Все те, которые совпадают со мной в образе мыслей, будут моими сообщниками. Кроме того, слушай одно из моих любимых мечтаний: у меня четыре брата, которым природа не отказала в способностях. Все они будут литераторами и у всех будет отражаться один дух. Куда бы нас судьба ни завела и как бы обстоятельства ни разрознили, у нас все будет общая цель — благо отечества — и общее средство — литература. Чего мы не сделаем общими силами? Не забудь, что когда я говорю мы, то разумею и тебя, и Титова.
Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотой слога. Но чем ограничить наше влияние? Где положишь ты ему предел, сказав nec plus ultra? Пусть самое смелое воображение поставит ему геркулесовы столбы, новый Колумб откроет за ними Новый Свет.
Вот мои планы на будущее. Что может быть их восхитительнее? Если судьба будет нам покровительствовать, то представь себе, что лет через 20 мы сойдемся в дружеский круг, где каждый из нас будет отдавать отчет в том, что он сделал и в свои свидетели призывать просвещение в России. Какая минута!
Таковы были мечты двадцатилетнего Киреевского. Тогда же для литературного вечера княгини З. А. Волконской написал он небольшой очерк «Царицынская ночь». Это было первое произведение Киреевского, вышедшее за пределы тесного кружка товарищей. Весной 1828 года на проводах Мицкевича он читал ему свои написанные по этому случаю стихи. В том же году в «Московском вестнике» была напечатана статья Ивана Васильевича «Нечто о характере поэзии Пушкина» и перевод Петра Васильевича из Кальдерона. В альманах Максимовича «Денница» Иван Васильевич напечатал «Обозрение русской словесности за 1829 год» уже с подписью. Так в качестве критика выступил он на литературное поприще, которое и он, и его ближайшие друзья считали истинным его призванием.
Небольшая статья о Пушкине, помимо своих положительных достоинств, невольно останавливает на себе внимание сдержанностью тона и самостоятельностью взгляда двадцатидвухлетнего автора, и притом в такое время, когда почти вся наша литературная критика представляла смесь общих фраз с площадной бранью. Статья Киреевского была едва ли не первой в России попыткой критики серьезной и строго художественной. Самое содержание статьи — разделение творчества Пушкина на три периода: итальянско-французский, байроновский и народный (или русско-пушкинский, как его называет Киреевский) — не говорит нам теперь ничего нового, но если мы вспомним время ее написания — за семь лет до смерти Пушкина, — то такая ясность понимания критиком развития творчества поэта задолго до завершения этого развития явится немалой заслугой в наших глазах, а определение достоинств и недостатков отдельных поэм и указывание на народность творчества поражают и теперь своей меткостью. Особенно любопытно сопоставить последнее указание с мнениями Белинского и с речью Достоевского при открытии памятника Пушкину: сопоставление это показывает, что вопрос, поднятый гораздо позже, уже ясно представлялся уму Киреевского за целые полвека.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества"
Книги похожие на "Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Т. Толычова - Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества"
Отзывы читателей о книге "Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества", комментарии и мнения людей о произведении.