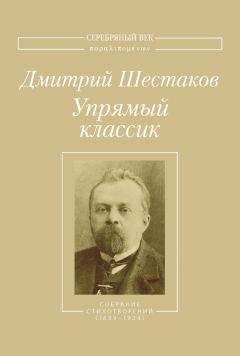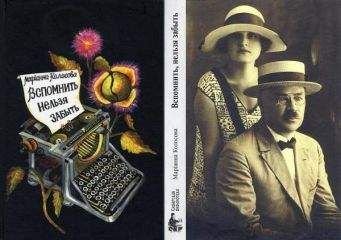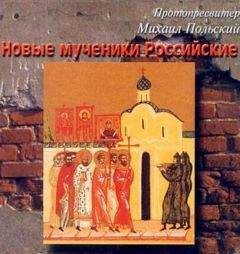Т. Толычова - Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества"
Описание и краткое содержание "Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества" читать бесплатно онлайн.
Полное собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества / Составление, примечания и комментарии А. Ф. Малышевского. — Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 2006. — 656 с.
Издание полного собрания трудов, писем и биографических материалов И. В. Киреевского и П. В. Киреевского предпринимается впервые.
Иван Васильевич Киреевский (22 марта/3 апреля 1806 — 11/23 июня 1856) и Петр Васильевич Киреевский (11/23 февраля 1808 — 25 октября/6 ноября 1856) — выдающиеся русские мыслители, положившие начало самобытной отечественной философии, основанной на живой православной вере и опыте восточнохристианской аскетики.
В четвертый том входят материалы к биографиям И. В. Киреевского и П. В. Киреевского, работы, оценивающие их личность и творчество.
Все тексты приведены в соответствие с нормами современного литературного языка при сохранении их авторской стилистики.
Адресуется самому широкому кругу читателей, интересующихся историей отечественной духовной культуры.
Составление, примечания и комментарии А. Ф. Малышевского
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»
Note: для воспроизведения выделения размером шрифта в файле использованы стили.
В 1839 году Киреевский был сделан почетным смотрителем Белевского уездного училища. В этом звании им была написана в 1840 году и подана тогдашнему попечителю Московского учебного округа графу Строганову записка «О направлении и метóдах первоначального образования народа»[262], а в 1854 году была представлена ему же другая записка «О преподавании славянского языка совместно с русским»[263]; вследствие этой второй записки в Белевском училище было введено преподавание славянского языка. В сороковых годах Киреевский искал кафедры философии в Московском университете, которая была тогда свободною, и по этому поводу им была составлена и представлена графу Строганову записка о преподавании логики, но намерению его не пришлось осуществиться, так как его, по-видимому, как это ни странно, все еще продолжали считать неблагонадежным и опасным со времени запрещения «Европейца». Между тем по его собственному признанию в письме брату около этого времени он жаждал труда, «как рыба, еще не жаренная, жаждет воды».
В течение 1844 года Киреевский через посредство брата и Хомякова вел переговоры с Погодиным относительно редакции и участия в издании «Москвитянина». Настроение, в каком он думал снова выступить на журнальное поприще, характеризуется следующими его словами из письма брату: «Хочу только не ввести никого в ответственность и не прятаться, как злоумышленник… Согласен на ваши предложения только в случае официального позволения, и притом при таком устройстве, чтобы при скоропостижной смерти Жуковского никто не пострадал от меня и при жизни и здоровье Жуковского чтобы я не был стеснен чужою волею…» В начале 1845 г. «Москвитянин» действительно переходит от Погодина к Киреевскому, но ненадолго: под редакцией Киреевского вышли только первые три книги журнала и был приготовлен материал для четвертой книги, официального разрешения на издание получить ему так и не удалось, а вести журнал, не располагая полной свободой действий, было ему очень трудно и даже невозможно, к этому присоединилось еще нездоровье. Сотрудниками Киреевского в этой попытке его возобновить журнальную деятельность, кроме прежних сотрудников «Европейца» — Хомякова, Языкова, А. И. Тургенева, князя Вяземского, явились Дмитрий Александрович Валуев, К. С. Аксаков, Петр Васильевич Киреевский и др.
Из статей самого Киреевского в «Московитянине» 1845 г. особенно замечательно его «Обозрение современного состояния литературы». Как характерную черту своего времени Киреевский отмечает прежде всего в своей статье падание бескорыстного интереса к явлениям чисто литературным: словесность изящная заменилась словесностью, так сказать, журнальною, в которой «мысль подчинена текущим обстоятельствам, чувство приложено к интересам партии, форма приноровлена к требованиям минуты». При этом интерес из области вопросов политических, особенно занимавших прежде умы на Западе, в последнее время перемещается в область вопросов общественных — с точки зрения усовершенствования человека и его жизненных отношений. Отсюда значительность частных литературных явлений и хаос противоречащих мнений и воздушных теорий в общем объеме литературы, и в основании всего — отсутствие общего или господствующего убеждения. Во всех литературных явлениях современности обыкновенно оказываются две стороны: «одна почти всегда возбуждает сочувствие в публике и часто заключает в себе много истинного, дельного и двигающего вперед мысль — это сторона отрицательная, полемическая, опровержение систем и мнений, предшествовавших излагаемому убеждению; другая сторона если иногда и возбуждает сочувствие, то почти всегда ограниченное и скоро проходящее, — эта сторона положительная, то есть именно то, что составляет особенность новой мысли, ее сущность, ее право на жизнь». Такая двойственность западной мысли объясняется, по мнению Киреевского, с одной стороны, сознанием неудовлетворительности прежних начал жизни, с другой, бессилием и невозможностью найти новое основание для жизни народной, иными словами, создать себе убеждение напряжением мышления. Рассматривая затем замечательные движения литератур европейских и соображая свои наблюдения с господствующим характером европейского просвещения, Киреевский приходит к ряду положений, определяющих в совокупности сущность его нового воззрения на отношение западного просвещения к русскому. «Отдельные роды словесности смешались в одну неопределенную форму. Отдельные науки не удерживаются более в своих прежних границах, но стремятся сблизиться с науками, им смежными, и в этом расширении пределов своих примыкают к своему общему центру — философии. Философия в последнем окончательном развитии своем ищет такого начала, в признании которого она могла бы слиться с верою в одно умозрительное единство. Отдельные западные народности, достигнув полноты своего развития, стремятся уничтожить разделяющие их особенности и сомкнуться в одну общеевропейскую образованность». Основанием для такого стремления служит признание общности и единства коренной основы господствующего начала европейской жизни. Современная особенность западной жизни заключается в сознании неудовлетворительности этого начала в данный момент для высших требований просвещения. Начало это характеризуется стремлением к личной и самобытной разумности в мыслях и в жизни, следовательно, «общее ощущение неудовлетворительности самих начал европейской жизни есть не что иное, как темное или ясное сознание неудовлетворительности безусловного разума». Отсюда возникает стремление к религиозности вообще, но это стремление, «по самому происхождению своему из развития разума, не может подчиниться такой форме веры, которая бы совершенно отвергала разум, ни удовлетвориться такою, которая бы поставляла веру в его зависимость». В крайнем развитии рационализма коренится источник отчуждения искусства от жизни и упадок поэзии. Вообще современный характер европейского просвещения однозначителен с характером образованности греко-римской, «когда, развившись до противоречия самой себе, она по естественной необходимости должна была принять в себе другое, новое начало, хранившееся у других племен, не имевших до того времени всемирно-исторической значительности». Заключительный вывод тот, что «на дне европейского просвещения в наше время все частные вопросы о движениях умов, о направлениях науки, о целях жизни, о различных устройствах общества, о характерах народных, семейных и личных отношений, о господствующих началах внешнего и самого внутреннего быта человека — все сливается в один существенный, живой, великий вопрос об отношении Запада к тому незамеченному до сих пор началу жизни, мышления и образованности, которое лежит в основании мира православно-славянского».
Обращаясь к России, Киреевский отмечает, как коренное отличие литературы русской от западноевропейской, ее подражательность. В народной самобытности западноевропейских литератур, в живой целости образованности европейских народов заключается основа значительности западной культуры. Подражательность нашей литературы делает произведения ее интересными для других народов разве только в статистическом отношении, как показание меры наших ученических успехов в изучении образцов. «Мы переводим, — говорит Киреевский, — подражаем, изучаем чужие словесности, следим за их малейшими движениями, усвояем себе чужие мысли и системы, и эти упражнения составляют украшение наших образованных гостиных, иногда имеют влияние на самые действия нашей жизни, но, не быв связаны с коренным развитием нашей, исторически нам данной образованности, они отделяют нас от внутреннего источника отечественного просвещения и вместе с тем делают нас бесплодными и для общего дела просвещения всечеловеческого». Такие явления, как Державин, Карамзин, Жуковский, Пушкин, Гоголь, — исключения, речь идет о словесности вообще, в обыкновенном ее состоянии. «Те начала умственной, общественной, нравственной и духовной жизни, которые создали прежнюю Россию и составляют теперь единственную сферу ее народного быта, не развились в литературное просвещение наше, но остались нетронутыми, оторванные от успехов нашей умственной деятельности, между тем как мимо их, без отношения к ним, литературное просвещение наше истекает из чужих источников, совершенно не сходных не только с формами, но часто даже с самими началами наших убеждений». Киреевский считает ошибочным мнение, «что полнейшее усвоение иноземной образованности может со временем пересоздать всего русского человека, как оно пересоздало некоторых пишущих и непишущих литераторов; уничтожить особенность умственной жизни народной так же невозможно, как невозможно уничтожить его историю; заменить литературными понятиями коренные убеждения народа так же легко, как отвлеченною мыслью переменить кости развившегося организма». Наконец, если бы это и было возможно, то в результате получилось бы не просвещение, а уничтожение народа. Одинаково ошибочным признает Киреевский и другое мнение, противоположное указанному безотчетному поклонению Западу, «столько же одностороннее, хотя гораздо менее распространенное», заключающееся «в безотчетном поклонении прошедшим формам нашей старины и в той мысли, что со временем новоприобретенное европейское просвещение опять должно будет изгладиться из вашей умственной жизни развитием особенной образованности»: восстановить форму жизни, однажды прошедшую и уже более не возвратимую, как та особенность времени, которая участвовала в ее создании, — это то же, что воскресить мертвеца. Сделавшись однажды участниками европейского просвещения, мы можем, если это нужно, подчинить его другому, высшему, дать ему то или другое направление, но истребить в себе его влияние мы не в силах. «Направление к народности, — замечает Киреевский, — истинно у нас как высшая ступень образованности, а не как душный провинциализм. Поэтому, руководствуясь этой мыслью, можно смотреть на просвещение европейское как на неполное, одностороннее, не проникнутое истинным смыслом и потому ложное, но отрицать его как бы не существующее — значит стеснять собственное»: результатом в последнем случае была бы односторонность просвещения, утрата им общечеловеческого значения.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества"
Книги похожие на "Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Т. Толычова - Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества"
Отзывы читателей о книге "Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества", комментарии и мнения людей о произведении.