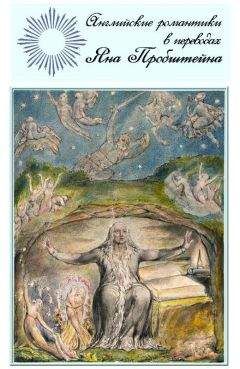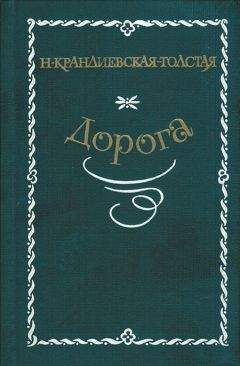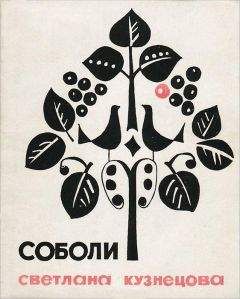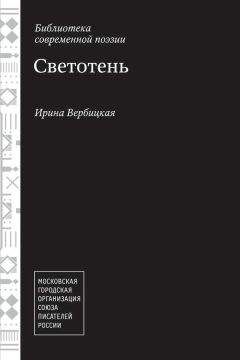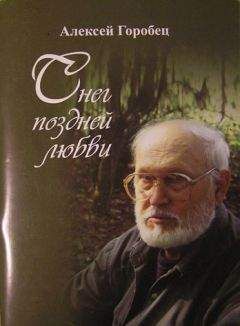Юрий Гречко - Паром через лето

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Паром через лето"
Описание и краткое содержание "Паром через лето" читать бесплатно онлайн.
Хорошие стихи всегда больше своего видимого, типографского объема. Потому что пишутся они не столько словами, сколько тем, что как бы само собою возникает вокруг слов, между ними. Юрий Гречко, чья первая книжка «Паром через лето» перед вами, хорошо понял этот «секрет». Вот завершающая строфа его стихотворения «Маневры»:
Конечно же, эти стихи больше, чем случай на маневрах, — они о преемственности, о поколении детей, вступивших в солдатский возраст погибших отцов. За спиной Ю. Гречко годы кропотливого освоения стиха и мира, несуетная и основательная поэтическая школа. Он филолог по образованию и поэт по призванию, участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей, давшего высокую оценку его работе. Его первая книга выходит своевременно — он заслужил право на читательское внимание.
Алексей Смольников
Это первый сборник молодого поэта. Его стихи — и о том поколении, которое вынесло на своих плечах ужасы прошлой войны, и о своих современниках, об их любви дружбе, отношении к природе, об их готовности совершать подвиги.
Юрий Гречко
Паром через лето
Дышите российской глубинкой.
Наведайтесь в рощу свою.
Дорожку в саду разгребите,
чтоб к зимнему выйти жилью.
Отечества тихие звуки
тотчас отзовутся в душе
сочувствием тайным, как будто
вы молоды были уже.
Курили на мерзлых ступенях
и слышали издалека,
как чьи‑то полозья скрипели
в пустых небесах большака.
Так пела гармоника, в поле,
где нету ни звезд, ни луны —
лишь снежная, дикая воля
простерта с любой стороны.
И зябко подернув плечами,
вы сразу поймете всерьез,
что любят рассудком вначале,
а с возрастом — любят до слез.
Что можно отсюда уехать
и где‑то прожить до конца,
оставив заречное эхо,
как гипсовый слепок лица…
Мне выслало детство
забытый рисунок…
Там в области сердца
не властен рассудок,
над формою сущность
еще не довлеет,
и горбится суша,
и парус белеет.
Дорога петляет,
сияют вершины,
огонь впечатляет,
как хвост петушиный,
и дым коромыслом
до неба восходит
от толстого мыса,
где жизнь происходит…
Ах, ясные краски
смешной акварели!
Прекрасные страсти
еще не созрели,
поля зарастали,
труба не трубила…
И даже война
никого не убила!
Как много лет назад я был влюблен
и солнцем на рассвете ослеплен!..
Я жег табак. Меня сжигал восторг.
Куда там спать! Небритый проводник
на миг в холодном тамбуре возник,
мне прокричав: — Сейчас Владивосток!..
И поезда пронзительный свисток,
и редкий лес, и придорожный стог —
смешалось все. Земля неслась вперед.
Густел туман. Блестел оконный лед.
Дыша в стекло, я наскоро искал —
когда и где, как синяя слюда,
проглянет океанская вода
сквозь редкий лес, в разломы белых скал.
И упускал подробности чудес.
Теперь неясен цвет моих небес,
вес кошелька и запах табака…
Остался стук колес издалека,
где жизнь еще прекрасна и легка —
беспамятно прекрасна и легка…
Тихо плещет вода о дощатый паром,
о дощатый паром, о смолистое древо.
Черный лес впереди, как рисунок пером,
как рисунок пером, ускользающий влево.
Черный лес позади полон зыбких теней,
полон зыбких теней, их страстей и борений,
непробудных болот и замшелых камней,
и замшелых камней — первородных творений.
Равнодушно и сонно. Движенье Туры,
лишь движенье Туры средь осеннего леса
поглотило закат, отразило костры,
отразило костры, не имевшие веса.
Первый бакен зажгли. И по стрежню реки,
и по стрежню реки, как по зябнущей коже,
рассыпаясь, бегут, мельтешат огоньки,
мельтешат огоньки лунной ряби и дрожи.
Кто‑то песню запел, кто‑то бросил весло,
кто‑то бросил весло, и притих, и неслышен…
Чью‑то лодку с излучин несло и несло,
все несло и несло мимо спящих камышин…
Все, что было в жизни той,
притягательно и странно.
Кошелек, всегда пустой,
не оттягивал кармана.
Наплывал ночной перрон,
суматохой оглушая.
Я умел владеть пером,
зуд бессонницы вкушая.
И среди живых вещей,
словно тень живому вторя,
был завистлив, как Кощей,
до чужой любви и горя.
И меня несло и жгло
и сжигало снежной пылью…
И неслышно время шло,
оборачиваясь былью.
По серой насыпи разъезда,
вдоль полосы березняка
прогуливаемся неспешно
до встречного товарняка.
За сдвоенной чертой металла
край простирается лесной.
«Какая глушь!..
Здесь время стало…» —
вздыхает кто‑то за спиной.
Уже во власти преферанса,
клянем скучнейший перегон
и, с проводницей препираясь,
в свой водворяемся вагон.
Там мальчик в розовой футболке
матрос на марсе корабля —
глядит, свисая с верхней полки,
как удаляется земля,
где, словно золото по черни,
осины желтым занялись
и льется тихий свет вечерний
на деревянный обелиск.
Мы были острижены коротко,
роднились похожестью лиц
и знали о службе с три короба
историй, легенд, небылиц.
Майор–военком, нас построив
на мокром асфальте двора
в кривую колонну по трое,
вздохнул облегченно: — Пора!..
Пора! Распахнулись ворота,
военный оркестр заиграл.
Еще не военная рота
сквозь город прошла на вокзал.
Еще и не в ногу… Но было
у всех нас на дне рюкзака
простое солдатское мыло
и звонкий дюраль котелка.
Но пели походные марши
извечную песню свою.
Мы делались строже и старше,
впервые шагая в строю.
Мы шли через площадь. И близко
от наших нестройных рядов
вдруг встала стрела обелиска
героям военных годов.
Здесь пахло подорванным дзотом,
волной контратак, высотой —
фрагментом войны, эпизодом
из огненной хроники той.
Над смертью, над кровью ранений —
плита, орудийный замок…
О, как мы держали равненье!
Оркестр по наитью умолк.
Никто нам команды не подал:
молчал строевой старшина.
Он весь подобрался и понял,
что значит сейчас тишина —
средь площади южного города,
в тумане дождя навесном —
для нас, для остриженных коротко,
родившихся в сорок восьмом.
Посредник вскричал:
— Вы убиты, сержант, наповал!..
А я–то
на счастье слепое свое уповал,
когда мы бежали, шалея,
в учебном огне.
И цепь отпустила меня,
разомкнувшись на мне.
Я падал на спину
в стране облаков кучевых.
Земля доносила
дыханье и топот живых.
Летел, накреняясь по ветру,
высокий ковыль,
и дым клочковатый,
и горькая рыжая пыль.
Убитый условно,
я падал на полупути.
Трава и деревья
могли сквозь меня прорасти.
И птица щегол
распевать надо мною могла,
когда наступает
весенняя душная мгла.
…А кто‑то сорвет землянику и скажет:
— Горчит…
В траву упадет,
рассмеется, потом замолчит.
И будет, наверно, лежать
голова к голове
с солдатом без имени,
давшим начало траве.
Геликон басит, как шмель,
над холодным садом.
Пахнет первая шинель
интендантским складом.
Самым первым табаком
пахнут наши руки…
Довоенный вальс–бостон,
чистый звук разлуки!
Он доносится сюда,
отзвук века плавный,
будто в нас через года
ищет сути главной.
Будто он для всех припас
счастья и волнений —
этот тихий трубный глас
зимних увольнений.
Он всегда поет с утра,
крутит, вертит нами
и целует, как сестра,
сжатыми губами.
Мальчики мрачно страдают,
что пойти на войну не успели,
наверно, судьба вниманьем
обошла их с какой‑то стати.
Отцы их родились вовремя.
Носили скрипучие портупеи
и с матерями знакомились
где‑нибудь в медсанбате.
Отцы их держали экзамен:
сдавали школьную физику,
длинной указкой водили
по старой карте Европы…
А им уже шили шинели.
Сначала шили на финскую.
Словно морщины горя,
землю изрыли окопы.
У здания военкомата,
задыхаясь, цвели каштаны,
оркестр военного времени
медным костром полыхал.
Никто еще не догадывался
о войне такого масштаба.
Никто еще–о похоронках,
представьте себе, не слыхал.
Подкатывали эшелоны.
Отцы грузились в теплушки.
Хроникер снимал лихорадочно
будущее кино,
в котором стоит у вагона
с черным томиком Пушкина
живой командир взвода,
убитый давным–давно.
Он слышит сигнал отправленья,
отряхивает колени
и на подножку поезда
вскакивает на ходу…
Еще никто не родился
из нашего поколенья.
Какие фильмы снимали
в сорок первом году!
Открывается альбом,
чередуются страницы —
время, взятое в границы
на картоне голубом.
Мера прошлого полна,
затянулись только сроки
опаляет ветром щеки
неизбывная война.
Фотографии друзей,
что погибли под Бреслау,
перешли на стенды славы
в краеведческий музей.
А ему еще видна
ночь, в которую когда–то
лейтенант и три солдата
обмывают ордена…
Духовые трубы,
платьице из льна.
Выдохнули губы:
— Девочки…
война!..
В центре танцплощадки,
словно бы больна,
вестью беспощадной
бредишь ты одна.
И никто не слышит
страшные слова…
Мятой, зноем дышит
пыльная трава.
Выпускное лето.
Восемнадцать лет.
Пуговка берета.
Голубой билет.
Вальс трубит исправно,
кто же устоит?..
Ах, какая правда
людям предстоит!
Все отделенье
накрыла фугаска…
Бой отдалился.
Солнце погасло.
Через окопы,
через тела
трещина взрыва
курган рассекла.
Ржаво блеснули
сквозь чернозем
меч древнерусский,
узкий шелом.
Сраму не имут
на передовой
князь безымянный
и рядовой.
Товарищ сержант Коновалов,
от долгой гражданки устав,
из глуби армейских анналов
я вновь извлекаю устав.
В нем памятен каждый параграф,
хоть минул порядочный срок.
Литавры курсантских парадов
гремят между стершихся строк.
И снова над плацем бетонным,
где столько пройти нам пришлось,
в высоком, белесом, бездонном —
осеннее солнце зажглось…
Товарищ сержант, почему бы
нам наши места не занять
под эти литавры и трубы,
которых летам не унять?
Нужна постоянная строгость
и ясность во всем и вполне,
чтоб раз обретенная стройность
все слышалась в вас и во мне.
Нужна, как любовь, как работа,
как груда листов черновых.
Все мерить соленостью пота —
привычка солдат отставных.
Ничто не покажется пресным,
ничто не истлеет, пока
для нас громыхают оркестры
на замерших флангах полка!
Мне бы вещи сейчас, торопясь, собрать
или так, налегке, уйти,
чтоб на скорый поспеть, уходящий в пять
со второго сквозного пути.
Мне курить бы, гадая: придешь —не придешь?
И, в вагон заскочив на ходу,
сочинить тебе сказку про ласковый дождь
в синем царстве, что я найду.
И отправить письмо, нашептав в конверт:
— Я люблю… — без красивых длиннот.
…В проводов телеграфных сложнейшей канве
мерзли птицы, как горстка нот.
Как долго я не был в лесу!
Ведерко с грибами несу
к костру, к очагу золотому.
Плечом задеваю стволы
и слышу от просек: волы
влекутся по лесу пустому.
Мелькнут очертанья арбы.
На предначертанье судьбы
похожа сухая дорога.
Темнеет, и лес поредел,
и небу положен предел
горбатой стеною отрога.
Смуглеет орешника лик.
И света вечернего блик
души в нем навеки не чает.
Нечаянный лист прошуршит
и кратким паденьем внушит,
что осень собой означает.
Над черною грудой ветвей
воссияла звезда.
Срывается снег.
И летят через лес поезда.
Окрестные реки
лежат в перламутровом льду.
Веселый попутчик пророчит
чудес череду.
Дурацкое счастье мое
настигает меня:
февральская ночь
предстает продолжением дня,
жар–птица витает
в пустом привокзальном саду.
Еще не светает,
и воздух похож на слюду.
Душа пребывает в смятенье,
блаженно глуха
к грядущей развязке рассвета
под крик петуха.
Есть только светило
над черною бездной лесов,
обителью сов
и вместилищем всех голосов —
прошедших и будущих…
Есть незнакомый вокзал,
веселый попутчик,
который почти доказал
нехитрую истинность
первопричины добра,
вина раздобыв
на последнюю горсть серебра.
Когда бы не терпкая влага
такого вина,
когда бы звезду золотую
затмила луна,
в событиях ночи моей
недостало б звена —
то легкого звона деревьев,
то снежного льна.
Закрутит поземка
редеющий сумрак полян,
и дым перелесков
несется по белым полям
все дале и дале —
туда, где пустые леса
лишаются веса,
шагнув наконец в небеса.
Рябина горчит.
Приближается время мороза.
Два голоса чистых
доносит река с перевоза.
Блестящая проза
не движется дальше пролога,
где гуси кричат
и дорога к парому полога.
Бездонная влага
струится меж этой и тою
землей берегов,
оглушенных лесной немотою.
Плеснет и отхлынет.
Настил деревянный подхватит.
Словарь распадется:
блестящего вздора не хватит
на целую фразу,
в которой сумеешь осилить
притихшую землю
и косноязычный осинник,
на фоне обрыва
сухие кусты краснотала…
Какая погода
для сумерек года настала!
Какая свобода
под сводами леса слоняться
и к призрачной мысли
о снеге светлейшем склоняться!
Под стенкой сарая дремать,
дожидаясь парома,
и слышать сквозь дрему,
как пахнет сырая солома,
как хмурится небо
и листья с осин облетают
и в воздухе тихом
почти бесконечно витают.
Сентябрь — ив далеком саду дозревают плоды.
Пора вспоминать, что библейский запрет отменен.
Сияет кувшинка во мраке цветущей воды
свечой во блаженном неведенье смены времен.
Герань под окном перешла в золотой сухостой,
пустая веранда готова к приему гостей,
которым грешно ли нагрянуть и стать на постой,
не дав о себе наперед телеграфных вестей.
Вечерним содружеством правит ленивая блажь
вкусивших от древа с лукавым названьем «ранет».
Отпущена мера болгарского перца в гуляш,
в мошну виночерпия — горсть полновесных монет.
Прекрасной лозою увенчан мой друг тамада.
Пространные тосты навеяны соком лозы.
Темна в облаках, надвигается с юга вода
завязку застолья окрасить началом грозы.
Во здравие ночи трубит жестяная труба,
сокрытая в дебрях сырой резеды и плюща,
когда благосклонным перстом указует судьба
сплотиться у лампы и ночь пережить сообща.
Не будем пристрастны к случайному выбору тем,
веселого зелья нацедим в бездонный кувшин;
помянем прошедшее наше, быть может, затем,
что нынешний праздник разлукой навек завершим.
Затем, что отпущено времени только в обрез
и утро едва ли забрезжит в четвертом часу,
и капли воды, просочившись сквозь ветхий навес,
во сне — как топор лесоруба в оглохшем лесу…
Лиловая вязь светотени
пестрит четвертушку двора,
и запах нагретых растений
по комнатам слышен с утра.
Какие простые приметы
у первоосенней поры!
Очерчены резко предметы,
деревья и конус горы.
Горячие доски фасада
белеют почти на глазах.
Ранет доставляют из сада
и варят в глубоких тазах.
Ползут облака, означая
игру с дождевою водой.
Но блага вечернего чая
нисходят своей чередой:
несут голубые сосуды
и яства на желтый поднос,
и в звяканье чайной посуды
не слышно мелькание ос…
Купите патефон
на шумной барахолке.
Смотреться будет он
под сенью книжной полки.
Веселая игра —
старинная машина!
Вставляется игла,
сжимается пружина.
Мембрану вниз — и вот
надсадно и игриво
чужой кумир поет
о карнавале в Рио.
О том, как без воды
остался праздный город,
на разные лады
чревовещает голос.
Любого уморит,
отправит в аут живо
набором «рио–рит»
домашнего пошиба.
…Но, просветлев лицом,
мать входит из прихожей:
— У нас с твоим отцом
был до войны похожий.
Стоял в пустом углу,
ломался и картавил —
отец одну иглу,
как бритву, часто правил.
Ты странным был, сынок:
когда кричал сердито —
никак уснуть не мог
иначе чем под «Риту».
Любил «Гавайский вальс»,
смеялся под «Калинку»…
Но, что же я… у вас,
я вижу, вечеринка?..
Купите патефон!
Костюм еще потерпит.
Старинный вальс–бостон
круг прошлого очертит,
где нет еще войны
и мама осторожно
накручивает сны
над пологом в горошек…
Забредаю по пояс
в луговую траву…
Я сейчас успокоюсь,
отдышусь, оживу.
Здесь щегол с хитрецою —
посвистит, помолчит,
мед цветочной пыльцою
чуть заметно горчит.
От забот отлучая,
тихо–тихо шурша,
мокрый куст молочая
бродит близ шалаша.
Ни обид, ни промашек…
Возле стариц глухих
в душном цвете ромашек
даже ветер утих.
Входите в занавес потертый
из затемненной стороны,
где незнакомые актеры
вживаньем в роль увлечены.
Сводите бархат за спиною
движеньем пары ватных рук.
Ослегтнув, словно спелеолог,
тянитесь на неясный звук.
Вы начинали издалека,
еще не зная, как манит
талантливейшая галерка
на свой двуполюсный магнит.
Она не слушает — внимает,
окаменелая навек,
вас до нее приподнимает
вниманья стереоэффект!
…Так дышит просека — устами.
И чьи‑то прошлые следы
ведут на выпуклый хрусталик
незамерзающей воды.
Так ваша исповедь — деревьям,
когда останетесь одни
в березняке заиндевелом,
прошитом строчкою лыжни,
когда вы полуинстинктивно
костер сложили вдалеке,
молясь, чтоб горло отпустило,
на тарабарском языке…
Полыхнула ночная солярка
из нутра жестяного ведра.
Неподвижно и сонно стояла
вровень с лесом сырая вода.
Омывая высокую землю,
не тревожима плеском весла,
горький вкус приворотного зелья
в берегах, как в ладонях, несла.
Кто там светит, дорогой измучен .
через топи прозрачных болот?
Меж крутых ли осенних излучин
перевозчика сон не берет?
Привставая с дырявой рогожи,
что‑то слышит в просторе пустом,
все он слышит свое. И прохожий,
знать, свое, прикорнув под кустом…
Когда‑нибудь зимой
приедет старый друг.
И первый взгляд его,
короткий, словно возглас,
напомнит мне о том,
что наш прекрасный возраст
уже проснулся в нас
и насторожил слух.
Когда‑нибудь зимой
мы станем лампу жечь
и выдумаем все,
что было нашим прошлым,
и жизнь пересечем,
и не заплатим пошлин
иных, чем этот стол
и сбивчивая речь.
Когда‑нибудь зимой
мы все сообразим
в мученьях наших жен,
в их горестных поступках
и назовем любовь
возможностью подспудной
принять простую мысль,
что мир неотразим.
Когда‑нибудь зимой —
ни раньше, ни поздней —
нас тайно охранят
домашние пенаты
дыханьем батарей
от участи пернатых,
и мы переживем
десяток снежных дней.
Когда‑нибудь зимой,
в начале иль в конце,
мы вспомним наконец,
мы вспомним друг о друге!
Под горьковатый чай,
под строгий окрик вьюги
не в первом говорить —
в единственном лице…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Паром через лето"
Книги похожие на "Паром через лето" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Гречко - Паром через лето"
Отзывы читателей о книге "Паром через лето", комментарии и мнения людей о произведении.