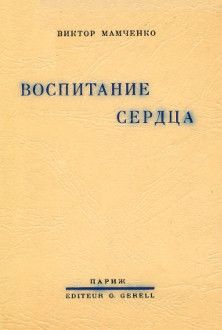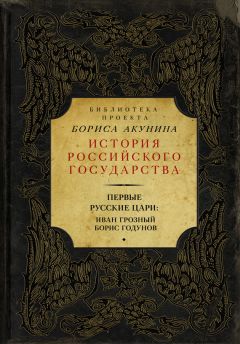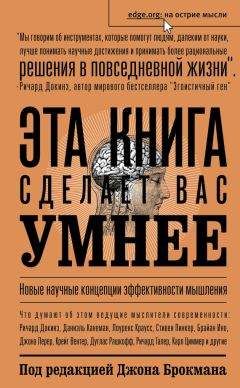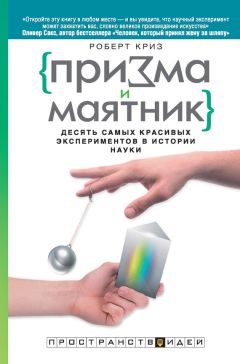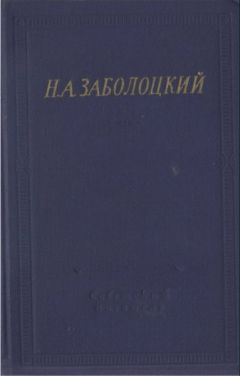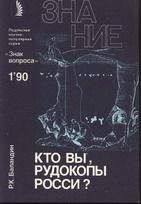Николай Богомолов - Михаил Кузмин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Михаил Кузмин"
Описание и краткое содержание "Михаил Кузмин" читать бесплатно онлайн.
Сборник посвящен писателю и поэту М. А. Кузмину.
В России вышли несколько книг стихов и прозы Кузмина, сборник статей и материалов о нем, появились отдельные публикации в журналах и разных ученых записках. И все-таки многое в его жизни и творчестве остается загадочным, нуждается в комментировании и расшифровке. Именно поэтому автор опубликовал в настоящем сборнике статьи и материалы, посвященные творчеству Михаила Алексеевича Кузмина от первых лет его литературного пути до самых последних дошедших до нас стихов.
Так, Вяч. Иванов видел в скрытом мистицизме ряда стихотворений и прозаических вещей Кузмина то откровение, которое достигается путем индивидуального потаенного знания, молитвы, мистических озарений. По Иванову, такое откровение могло быть распространено и на жизнь других людей, могло стать предметным уроком для них, а стало быть, Кузмин оценивался как потенциальный член некой гипотетической общины людей, объединенных этим знанием и опытом.
Но для самого Кузмина такие попытки не могли не выглядеть заранее обреченными на неуспех, потому что частный, индивидуальный опыт религиозного переживания действительности, вынесенный в качестве образца пусть даже для сравнительно немногих людей, представлялся ему профанированным и тем самым лишенным всякого смысла. В каком-то смысле ему более близка была позиция Брюсова, не требовавшего потаенной сложности и вполне удовлетворенного размерами того стакана, из которого Кузмин пил[49]. Но и позиция Брюсова устраивала его далеко не полностью, и главной причиной тому была брюсовская ориентация на сугубо литературную систему ценностей, замкнутость в пределах журнально-книжной полемики. Не могла не раздражать и поза мэтра, бесстрастно судящего своих современников и раздающего неопровергаемые оценки. Насколько можно судить по дневнику и критическим статьям Кузмина, особой ценностью для него обладало искусство, наделенное большой внутренней свободой, той свободой, которая легко выражается в неправильностях, небрежности, незавершенности, которая позволяет писателю с равной степенью легкости быть цельным и расколотым, мистиком и реалистом, — одним словом, наиболее соответствовать природе своего дарования.
Источники такого отношения к творчеству еще нуждаются в определении, отдельные точные наблюдения[50] должны быть сложены в единую систему, но уже и сейчас ясно, что в основе этого отношения у Кузмина лежит глубоко осознанный и переработанный сугубо индивидуальный опыт, понимаемый как нерасчлененное и нерасчленимое единство личности, выражающей себя в произведении.
Из этого же исходит и определение Кузминым собственной литературной позиции. До тех пор, пока личность остается в неприкосновенности, он вполне спокойно соседствует с каким-либо другим писателем, теоретиком, литературной группой и пр., но как только начинаются попытки вмешательства в естественное развитие поэтической личности, происходит бунт, ведущий к пересмотру любых позиций, какими бы прочными они ни казались.
Именно этим, по всей вероятности, определяется последовательное отчуждение Кузмина ото всех литературных позиций и группировок, заинтересованных в том, чтобы иметь в своих рядах такого незаурядного поэта.
Типичным примером такого расхождения является разрыв Кузмина с Вяч. Ивановым. Сугубо личные причины[51] были, скорее всего, лишь внешним выражением глубокого внутреннего недовольства Кузмина той открыто идеологической полемикой, в которую он (видимо, помимо своей воли) оказался втянут. Повод был достаточно незначительным: при публикации в журнале «Труды и дни» его рецензии на сборник Иванова «Cor ardens» редакцией был урезан ее конец, что вызвало возмущение как Иванова, так и самого Кузмина. Надо сказать, что в последней утраченной фразе не было ничего принципиального[52], но создавшуюся ситуацию Кузмин решил использовать, чтобы решительно размежеваться с позицией журнала, четко определившейся уже в первом его номере. За отдельными частными пунктами полемики отчетливо просматривается главное — несогласие видеть в русском символизме единственного законного наследника всей мировой литературы, на чем решительно настаивали многие авторы первого номера «Трудов и дней». В письме в редакцию журнала «Аполлон», даже не уточняя, о какой именно фразе, снятой в печати, идет речь, Кузмин решительно говорит: «Как ни неприятно „Трудам и дням“, но школа символистов явилась в 80-х годах во Франции и имела у нас первыми представителями В. Брюсова, Бальмонта, Гиппиус и Сологуба. Делать же генеалогию Данте, Гете, Тютчев, Блок и Белый не всегда удобно, и выводы из этой предпосылки не всегда убедительны»[53]. Хотя имя Иванова было тщательно убрано из письма, он не мог не принять многое из того, что произнес Кузмин, на свой счет, и личная ссора была таким образом возведена к более серьезным и значимым для литераторов расхождениям в эстетике и идеологии.
По аналогичной схеме во многом строились отношения Кузмина с другим литературным направлением, в члены которого его нередко записывают и до сих пор. Акмеист Кузмин или нет — споры об этом шли и идут в литературе довольно долго. Определение, данное ему В. М. Жирмунским, — «последний русский символист»[54] — не учитывает индивидуальной реакции Кузмина на любые попытки присоединить его к программным выступлениям символистов, являясь только типологическим определением, да и то в рамках концепции самого Жирмунского. Но нисколько не более обоснованны и попытки сблизить Кузмина с акмеизмом. Уже не раз цитировались резкие определения, которые Кузмин в различных статьях давал этой группе, и опровергнуть таким образом мнение о Кузмине-акмеисте очень легко. Но гораздо более существенным и поучительным является рассмотрение его схождений и расхождений с акмеистами в литературном процессе эпохи.
Казалось бы, тесная дружба с Гумилевым после приезда того в Петербург из Парижа, единство литературной позиции в момент первого, наиболее серьезного кризиса символизма, когда в 1910 году Кузмин вместе со всей «молодой редакцией» журнала «Аполлон» явственно заявляет о своей приверженности курсу Брюсова, а не декларациям Блока и Вяч. Иванова (как представляется, эта позиция отразилась в тексте рассказа «Высокое искусство», посвященного Гумилеву), статья «О прекрасной ясности», участие в заседаниях «Цеха поэтов», предисловие к первой книге стихов Анны Ахматовой — все это указывает, что определенная близость существовала. И однако никто из акмеистов никогда не говорил и не писал, что Кузмин принадлежит к их узкому, корпоративно замкнутому кругу.
Чаще всего в качестве доказательных объяснений фигурируют личные мотивы. Вот что рассказывала, например, Ахматова: «У нас — у Коли <Гумилева>, например, — все было всерьез, а в руках Кузмина все превращалось в игрушки… С Колей он дружил только вначале, а потом они быстро разошлись. Кузмин был человек очень дурной, недоброжелательный, злопамятный. Коля написал рецензию на „Осенние озера“, в которой назвал стихи Кузмина „будуарной поэзией“. И показал, прежде чем напечатать, Кузмину. Тот попросил слово „будуарная“ заменить словом „салонная“ и никогда во всю жизнь не прощал Коле этой рецензии…»[55]
Нет сомнения, что одна из рецензий (Гумилев писал об «Осенних озерах» трижды[56]) задела Кузмина настолько, что он — редкий случай в истории русской литературы! — счел нужным дезавуировать свою собственную рецензию на гумилевское «Чужое небо»: высоко отозвавшись о сборнике на страницах «Аполлона», он через несколько месяцев в «Приложениях к „Ниве“» оценил ту же книгу почти уничтожающе. Но вряд ли стоит сомневаться, что инцидент с гумилевской рецензией был лишь толчком, поводом к решительному разрыву с Гумилевым и возглавляемой им школой.
Для Кузмина было очевидным фактом (другое дело, насколько это соответствовало действительности), что акмеизм как литературное направление является в первую очередь отражением личности его основателя, то есть Гумилева. Следовательно, именно гумилевская эстетика должна была проецироваться на все представления акмеизма об эстетической природе литературы. А тут расхождения между двумя поэтами оказываются принципиальными. Кузмин не раз язвительно высмеивал слова Кольриджа, охотно повторявшиеся Гумилевым: «Поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке», — а ведь именно из этого принципа исходил Гумилев в своих критических работах и в практике заседаний «Цеха поэтов». Тяготение Гумилева, а следом за ним и всего «Цеха», отчасти и акмеизма, к нормативной поэтике не могло не вызвать решительного противодействия у Кузмина. Именно поэтому внешний повод и вылился в такое резкое расхождение между двумя поэтами. За частными недоразумениями и неприязненностью легко просматривалось принципиальное различие во взглядах на поэтическое творчество.
К первой половине десятых годов относится и закрепление за Кузминым репутации человека, лишенного каких бы то ни было моральных устоев. Наиболее отчетливо такое отношение выразилось в поздних заметках Ахматовой и в обрисовке того из персонажей «Поэмы без героя», облик которого в наибольшей степени связан с обликом Кузмина[57]. Всем читавшим Кузмина были известны его отношения с молодым поэтом-гусаром Всеволодом Князевым, и очень многих шокировало, что после того, как Князев покончил с собой в результате несчастной влюбленности в О. А. Глебову-Судейкину (внешне казалось, что второй раз она вмешалась в судьбу Кузмина, разлучив его с любимым человеком: сначала с Судейкиным, а затем и с Князевым), Кузмин выказал полное равнодушие к его гибели и даже не присутствовал на похоронах.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Михаил Кузмин"
Книги похожие на "Михаил Кузмин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Богомолов - Михаил Кузмин"
Отзывы читателей о книге "Михаил Кузмин", комментарии и мнения людей о произведении.