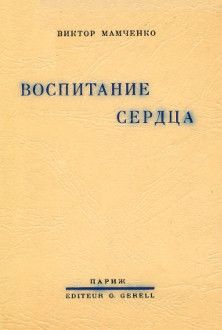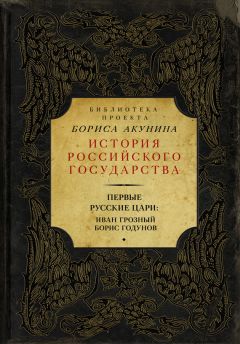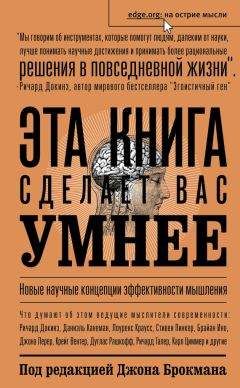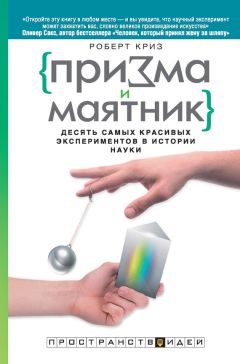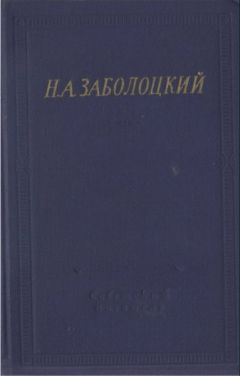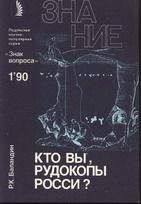Николай Богомолов - Михаил Кузмин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Михаил Кузмин"
Описание и краткое содержание "Михаил Кузмин" читать бесплатно онлайн.
Сборник посвящен писателю и поэту М. А. Кузмину.
В России вышли несколько книг стихов и прозы Кузмина, сборник статей и материалов о нем, появились отдельные публикации в журналах и разных ученых записках. И все-таки многое в его жизни и творчестве остается загадочным, нуждается в комментировании и расшифровке. Именно поэтому автор опубликовал в настоящем сборнике статьи и материалы, посвященные творчеству Михаила Алексеевича Кузмина от первых лет его литературного пути до самых последних дошедших до нас стихов.
Из сказанного вытекает и еще одна проблема: возможно ли считать раннего Кузмина символистом, или же он принадлежит к какому-нибудь другому направлению в русской поэзии? В называвшейся статье Г. Шмакова говорится, что «очень важным для правильного понимания своеобразия поэтической системы и специфики <кларизма> Кузмина является замечание Блока о том, что Кузмин никак не связан с русским символизмом и не является символистом по существу. <…> Блок справедливо возражал на то, что „он (Вяч. Иванов. — Г.Ш.) тащит за собой Кузмина, который на наших пирах не бывал“»[156]. Думается, что здесь автор статьи упустил из виду два обстоятельства: во-первых, в цитируемом письме Блока к Белому слово «наших» подчеркнуто, что свидетельствует об отнесении его к самим Блоку и Белому, а вовсе не ко всему символизму. Во-вторых, это замечание высказано в частном письме, после сложных раздумий по поводу первого номера журнала «Труды и дни» и опубликованной там весьма несимпатичной Блоку рецензии Кузмина на ивановский «Cor ardens». Полемический контекст высказывания не позволяет принять его за абсолютную истину, даже если мы будем считать Блока носителем такой истины, что не вполне оправданно.
Противоположная точка зрения была высказана В. М. Жирмунским в известной статье «Преодолевшие символизм»: «Мы можем назвать Кузмина последним русским символистом. Он связан с символизмом мистическим характером своих переживаний; но в стихи он не вносит этих переживаний, как непобежденного, смутного и трепещущего хаоса. Искусство начинается для него с того мгновения, когда хаос побежден…»[157]. Вероятно, отнесение Кузмина (во всяком случае, на раннем этапе его творчества; вопрос о позднейшей философской лирике Кузмина вряд ли может быть решен таким образом) к символистам в общем смысле правильно, хотя необходимо сказать и о том, что это не означало его безусловного подчинения «заветам символизма», да и степень преодоленности хаоса в его стихах, как кажется, несколько преувеличена Жирмунским, что может объясняться тем, что в 1916 году, когда писалась статья, поэзия Кузмина действительно тяготела к «опрощению» и новые тенденции в ней только начинали проступать. Мы стремились показать, что с первых своих стихов Кузмин тяготел к двойственности поэтической структуры, где за призрачностью и масочностью все время ощущались бы глубина и темнота хаоса, непреодоленного, но как бы отодвинутого на задний план. В критике современников это чаще всего отмечалось при сопоставлении разных сторон творчества Кузмина, особенно его стихов и прозы[158]. Как это происходило внутри одного произведения, лучше всего продемонстрировал Блок (помимо упомянутой рецензии, см. также его отзыв о повести «Крылья»[159]).
Но, быть может, не менее важной была жизненная позиция поэта, которая, вполне вероятно, также в значительной степени восходит к идеям «гафизического» круга. Если обратиться к уже неоднократно использованной (и публикующейся в полном объеме далее) переписке Кузмина и Нувеля, то нетрудно заметить, что для Нувеля легкость отношения к жизни принципиальна. У Кузмина же все выглядит гораздо более серьезным, чем у его конфидента. Например, забота о любимом человеке принимает у него характер едва ли не болезненный, что чувствуется не только в письмах, но и в стихах, вошедших в «Любовь этого лета»:
Мне не спится, дух томится,
Голова моя кружится…
Но так же свободно любовь может перейти в полнейшее равнодушие:
«Читал он (Кузмин. — Н.Б.) однажды мне свой дневник. Странный. В нем как-то совсем не было людей. А если и сказано, то как-то походя, равнодушно. О любимом некогда человеке:
— Сегодня хоронили N.
Буквально три слова. И как ни в чем не бывало — о том, что Т.К. написала роман, и он уж не так плох, как это можно было бы ожидать»[160].
Описанное здесь отношение к жизни в еще большей степени противопоставляет Кузмина постсимволистскому поколению поэтов, для которых не только «надменность солипсизма» казалась «не акмеистичной»[161], но и отношение к жизни как к реальности, воспринимаемой в зависимости от минутного настроения поэта, было неприемлемо. Не случайно этическая проблематика ахматовской «Поэмы без героя», где в наибольшей степени высказались принципы акмеизма как «тоски по мировой культуре», так тесно сплетена с обликом персонажа, о котором Ахматова писала: «Мне не очень хочется говорить об этом, но для тех, кто знает всю историю 1913 г., — это не тайна. Скажу только, что он, вероятно, родился в рубашке: он один из тех, кому все можно. Я сейчас не буду перечислять то, что было можно ему, но если бы я это сделала, у современного читателя волосы бы стали дыбом»[162]. Противопоставление двух формул: «Это я — твоя старая совесть» и «Кто не знает, что совесть значит И зачем существует она» — подразумевает прежде всего Автора поэмы и персонажа, вобравшего в себя очень многие черты жизненного и литературного облика Кузмина[163]. Поэтому мы имеем основания возводить предысторию поэмы (отнюдь не настаивая на прямом отражении, ибо Ахматова, вероятно, вообще ничего не знала о существовании общества) к «Северному Гафизу» и его идеям.
На первый взгляд, «общество друзей Гафиза» представляется малозначительным и малозаметным эпизодом на фоне революционных событий 1906–1907 годов, локальной частностью чрезвычайно насыщенной петербургской культурной жизни, не связанной с идейными исканиями людей, к нему не принадлежащих. Не случайно во «внешней» переписке кружка о нем почти не упоминается, неизвестны сколько-нибудь подробные мемуары об этом обществе. И тем не менее деятельность этого кружка необходимо включить в число тех явлений культуры, которые непременно должны учитываться при анализе всей культурной жизни России начала XX века.
Существенно, прежде всего, здесь то, что деятельность «Северного Гафиза» получила отражение в литературе. Помимо уже называвшихся стихотворений Кузмина и Вяч. Иванова, рассказа С. Ауслендера, явные аллюзии на события из жизни «башни» того времени (в том числе развивавшиеся и в рамках «гафизитства») находим в комедии Зиновьевой-Аннибал «Певучий осел», первое действие которой было опубликовано в альманахе «Цветник Ор», а второе, третье и четвертое остались при жизни автора ненапечатанными (между прочим, музыку к комедии предполагал писать Кузмин). Наиболее явно эти аллюзии проявляются в хоре эльфов из второго действия: «Какой печальный оборот Вдруг приняли дела на башне»[164], а также в сцене из третьего действия, когда появляются влюбленные «человек с головой черной пантеры» и «Женщина с мордой Гиэны» и первый из них произносит: «Здесь возведу я высокое ложе. Здесь совершится наш подвиг и наше падение. Мы подвижники Великой Страсти. Идите, все демоны, и люди, и звери, — сетью окиньте ложе страстной пытки, чтобы, не изведенные из ада, мы так лежали: я когтями терзая ее мясо, она клыками вгрызаясь в мои внутренности. Вот путь наш в Дамаск!»[165]. Впрочем, самим символистам аллюзионность была очевидна и по первому действию, что ясно из письма Брюсова к З. Н. Гиппиус от 22 мая 1907 года[166]. А в начале 1907 года задним числом Зиновьева-Аннибал осмысляла как «предгафизическую» свою повесть «Тридцать три урода» (окончена в начале мая 1906 г.). В письме к А. Р. Минцловой она говорила: «Теперь о Тридцати Трех два слова. Истинно тронута тем, что вы вторично трудитесь говорить о них, и неутешна о пропаже первых ваших „неповторяемых“ слов. Этот „огонь“, „искажающий, уродующий“ „вечность форм“, — огонь чадный. Это „ненахождение выхода слов“, „отчаяние, искание“ — плоды уныния, падения, отчаяния, как я однажды подписала под заглавием книги. Но все это не настоящее. Это первая книга, которую я писала не всею собою, в которой передавала горение и корчи своей ряби, даже не средней глубины. Это Кузмин, странное весна и лето, Сомов, и апогей — Городецкий (предчувствием) в девушке без имени, и беспомощность, безверность ряби моей, ветром смятой поверхности, — в бедной Вере. И все же она Вера. Умерла, себя не познавши. Я же дальше живу, и даже когда писала, то знала за книгой, <не о?> чем сказала книга, но нравилось мне сказать только то, что сказала. И все же, или именно потому (ведь это, может быть, именно мое преступление дурного демонизма, — это книга, написанная с какой-то злостью и намеренно не договоренная) — в этом чадном рассказе оказалась какая-то пророческая сила»[167].
Но, может быть, еще более важно, что с появлением и развитием «гафизитства» у ряда членов кружка было связано формулирование собственных мировоззренческих позиций. Едва ли не в наиболее открытой форме это сказалось в отношениях Иванова с Н. А. Бердяевым. Для определения схождений и расхождений двух выдающихся мыслителей непосредственно во времена «Гафиза» прямых данных, если не считать довольно случайных упоминаний сторонних наблюдателей, у нас нет, но в более поздних письмах Бердяева к Иванову точки расхождения названы очень отчетливо.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Михаил Кузмин"
Книги похожие на "Михаил Кузмин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Богомолов - Михаил Кузмин"
Отзывы читателей о книге "Михаил Кузмин", комментарии и мнения людей о произведении.