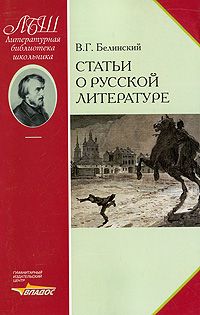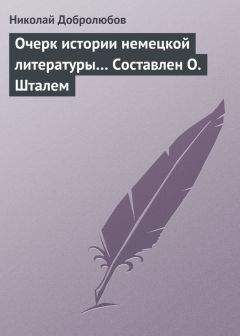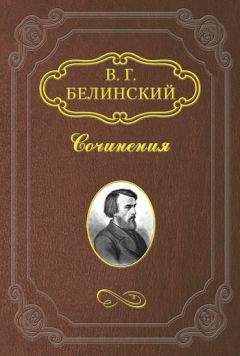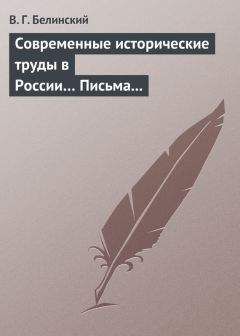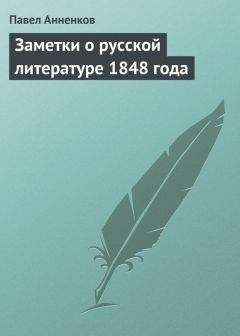Вадим Вацуро - Избранные труды

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Избранные труды"
Описание и краткое содержание "Избранные труды" читать бесплатно онлайн.
Вадим Эразмович Вацуро (1935–2000) – выдающийся историк русской литературы. В настоящее издание включены две большие работы В.Э.Вацуро – «Северные Цветы (История альманаха Дельвига – Пушкина)» и «С.Д.П.: Из истории литературного быта пушкинской поры» (история салона С.Д.Пономаревой), выходившие отдельными книгами соответственно в 1978-м и 1989 годах и с тех пор ни разу не переиздававшиеся, и статьи разных лет, также не периздававшиеся с момента первых публикаций. Вошли работы, представляющие разные грани творчества В.Э.Вацуро: наряду с историко-литературными статьями о Пушкине, Давыдове, Дельвиге, Рылееве, Мицкевиче, Некрасове включены заметки на современные темы, в частности, очерк «М.Горбачев как феномен культуры».
B.Э.Вацуро не только знал историю русской литературы почти как современник тех писателей, которых изучал, но и умел рассказать об этой истории нашим современникам так, чтобы всякий мог прочитать его труды почти как живой документ давно прошедшей эпохи.
Как поэта Федора Туманского «открыл» Дельвиг. От него дошло до нас всего десять стихотворений – и из девяти, напечатанных им при жизни, четыре появились в «Северных цветах на 1826 год» – почти половина его литературного наследия! Три элегии и «Молитва» его были совершенно в духе традиционной элегической школы, но их ценили: почти через семь лет Воейков перепечатает их из «Северных цветов» в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» и даже произнесет им особую похвалу. В эти годы Туманский особенно близок к кружку: он очень дружен с Левушкой Пушкиным, постоянно бывает у Дельвига и даже, кажется, помогает им при переписке для издания пушкинских стихотворений 30 .
Старинное знакомство привело в альманах еще двух человек.
Алексей Дамианович Илличевский, «Олосинька» первого лицейского выпуска, только что вернулся в Петербург после двухлетнего заграничного путешествия. Лицейские однокашники, недолюбливавшие его за карьеризм и подозрительный характер, не без иронии рассказывали друг другу, что он марширует по столице в золотых очках с видом наблюдателя и мечтает быть кавалером разных орденов. Перед отъездом он имел неудовольствие с Дельвигом: он полагал, что барон, на правах цензора поэзии в Вольном обществе любителей российской словесности, ограничивает его стихам доступ в «Соревнователь» и не допускает перевод из «Лузиады» Камоэнса – предмет его авторской гордости. По пути за границу Илличевский остановился в Дерпте, где свел знакомство с Языковым; отношения были даже дружеские, и он оставил Языкову тетрадь своих стихов с правом печатать где хочет и даже исправлять. От последнего права Языков благоразумно отказался. В марте 1825 года Языков прислал эту тетрадь в Петербург для возвращения по принадлежности, а в апреле Илличевский появился в столице сам и возобновил свои литературные связи 31 . Он предложил Дельвигу пять небольших стихотворений – если не все, то часть их была написана еще до отъезда – и путевой очерк «Путешествие на Сент-Бернард». Остро нуждаясь в прозе, Дельвиг должен был принять даяние с благодарностью, хотя очерк вызывал потом нападки; к стихам же Илличевского он всегда относился скептически: это были искусно обработанные, не лишенные изящества и даже остроумия поэтические безделки, почти всегда переводные, но без оригинальности и чаще всего без поэтического чувства. Илличевский видел в них русскую поэтическую «антологию», усовершенствующую стихотворный язык.
Вторым новым лицом был Иван Ермолаевич Великопольский, напечатавший у Дельвига мадригальное стихотворение «К подаренному локону».
Этот поэт остался в литературе почти исключительно благодаря эпиграммам Пушкина, на которые он в свое время очень обижался. В начале 1820-х годов он, однако, пользовался некоторой, хотя и ограниченной известностью. Он был членом обоих петербургских литературных обществ и помещал стихи в «Благонамеренном». Он знал довольно коротко Дельвига и И. И. Пущина и не вполне прервал с ними связь, когда перешел на службу в Староингерманландский пехотный полк, стоявший то в Пскове, то в его окрестностях. Здесь он встретился с Пушкиным, играл с ним в штосс – не всегда удачно и отсюда же посылал стихи в петербургские журналы. Когда вышла книжка «Цветов» с его стихотворением, Дельвиг послал ему экземпляр с надписью «Милому поэту»; Великопольский был растроган и откликнулся длинным посланием, где попутно задел Ореста Сомова и «Фаддея» – «отца безмедныя пчелы», который, рецензируя альманах, прошел его детище совершенным молчанием. В конце 1826 года он приехал в Петербург и побывал у Дельвигов 32 ; плодом этого визита, видимо, было появление в «Северных цветах на 1827 год» нового его стихотворения «Воспоминание (Из Ламартина)».
Таковы были основные «вкладчики». По одному – двум стихотворениям дали прежние участники «Цветов». Востоков, столь щедро снабжавший Дельвига в прошлом году, поскупился на этот раз: он дал одну, хотя и весьма примечательную «сербскую песню» – «Строение Скадра» и небольшое стихотворение «К друзьям» – то самое послание к Гнедичу, которое так ценили Плетнев и Дельвиг. Одно стихотворение – «Развалины» – принес Масальский, одну «Элегию» – М. Л. Яковлев; Платон Ободовский дал два фрагмента из довольно обширной «персидской поэмы» «Орсан и Леила», еще какой-то «А. Ог-в» малозначительное «подражание Скаррону» («Моя эпитафия»). Две пьесы появились анонимно – «14 сентября 1824 г.» и «Фирдоуси» – своеобразная восточная аллегория, не случайно соседствующая с восточными аллегориями Федора Глинки: легенда о великом поэте и неблагодарном властителе – тема, излюбленная «соревнователями» и подхваченная декабристами. Наконец, у Дельвига были два стихотворения Батюшкова – «К N. N.» – послание к С. С. Уварову, написанное еще в 1817 году, и «Подражание Ариосту» – изящный антологический фрагмент, также из последних стихов. Эти стихи Дельвиг привозил Пушкину в Михайловское, и Пушкин сделал копию и послал Вяземскому 33 .
Это было все, чем располагал или мог располагать Дельвиг летом 1825 года. Свои собственные поэтические запасы он исчерпал почти полностью: в альманах ушли все его стихи последнего времени – кроме лицейской песни, написанной ко дню 19 октября. Это были две «русские песни» – «Две звездочки» и ставший потом знаменитым «Соловей мой, соловей», одно маленькое альбомное стихотворение («В альбом С. Г. К-ой»), большая идиллия «Друзья» и две антологических эпиграммы «Мы» и «Эпитафия». Последняя была надгробным приношением: она была посвящена памяти Софьи Дмитриевны Пономаревой. Дельвиг прощался со своей прежней привязанностью; последний раз на страницах альманаха мелькнет образ этой женщины, которая будет еще некоторое время вызывать запоздалую ревность у Софьи Михайловны Дельвиг. К этому собранию стихов он добавил и два ранних – трех– или четырехлетней давности: уже упомянутое нами посвящение Гнедичу и эпиграмму «Луна»; ранние стихи уже его не удовлетворяли, он не был уверен в их достоинствах и потому не поставил под ними полной подписи, а только инициал 34 .
Нужны были поэты, нужны были художники.
И нужен был – по примеру «Полярной звезды» – критический обзор, открывавший альманах. Но как раз критика в дельвиговском кружке не было. Статья Плетнева в прошлой книжке показывала это как нельзя лучше. Как бы ни спорить с Бестужевым, нельзя было не признать, что обзоры его превосходят плетневский во всех отношениях – и прежде всего по ясности и оформленности эстетической позиции. Здесь сказывалась не только разница талантов, но разность самих литературных групп. Кружок Рылеева и Бестужева имел общественную программу – это была теперь программа Северного тайного общества. Она направляла перо литератора, диктуя ему оценки, определяя его симпатии и антипатии. Критическая статья превращалась в декларацию; ее эстетические – а с ними и общественные – идеи читались без труда: национальная литература, гражданский романтизм с неизбежной социальной дидактикой, антидеспотический дух. Если затем в альманахе поместить несколько произведений в этом же ключе – он получит свое лицо.
«Полярная звезда» имела свое лицо.
Она начинала сближаться с журналом – не по внешним признакам, а в самом своем существе. Она проводила свою политику – общественную и литературную.
Мы увидим далее, что слово «журнал» все чаще будет произноситься литераторами, сочувствовавшими Рылееву и Бестужеву. «Северные цветы» не могли перерасти в журнал.
Это был типичный альманах и порождение «века альманахов», исчезнувшее вместе с ним. Кружок Дельвига не складывался в литературно-общественную группировку, которая могла бы выступить с прямой декларацией. Его объединяли не программы, а общественные и эстетические тяготения. Он был тем, что современные социологи назвали бы, вероятно, «неформализованной группой», и в ней особое значение приобретали связи литературно-бытовые, связи людей «кружка», но не литературной «партии».
Дельвиг, Баратынский, даже Плетнев были затронуты общественными веяниями декабристской эпохи, они сочувствовали многому, что содержалось в декабристских программах, – и уж, конечно, не сочувствовали ни российскому деспотизму, ни мистицизму, ни засилью цензуры. Они не были и не могли быть принципиальными врагами издателей «Полярной звезды». Но они не могли быть и их единомышленниками и союзниками; они либералы, не революционеры.
Они – романтики, и гражданский пафос не чужд им; он выливается иной раз в резких эпиграммах, как эпиграмма Баратынского на Аракчеева. Они чуждаются мистического романтизма Жуковского, и придворная его служба им не по душе. Но и гражданская поэзия – не их сфера, и они равным образом удаляются от эстетических деклараций декабризма, соприкасаясь с ними лишь там, где речь идет о поэзии Байрона, о неприятии официоза, об устремлениях к национальным поэтическим истокам – к народной поэзии. Именно поэтому они никогда не станут рассматривать Жуковского только под социальным углом зрения и не выступят против него как против принципиального противника. Эстетическая сфера для них более автономна, чем для идеологов декабризма. Здесь идеалы их – аморфнее, абстрактнее – но шире.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Избранные труды"
Книги похожие на "Избранные труды" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вадим Вацуро - Избранные труды"
Отзывы читателей о книге "Избранные труды", комментарии и мнения людей о произведении.