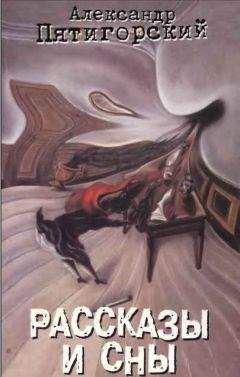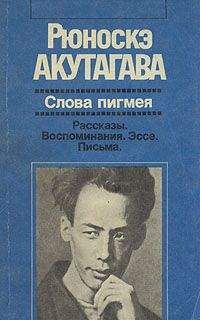Сергей Зенкин - Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре"
Описание и краткое содержание "Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре" читать бесплатно онлайн.
Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту. В книгу также включены материалы российско-французского коллоквиума о Морисе Бланшо — выдающемся представителе французской литературы и интеллектуальной культуры XX века, и библиографический указатель «Французская гуманитарная мысль в русских переводах, 1995–2004 гг.».
Для специалистов по культурологии, философии, теории и истории литературы.
II
4Итак, на вопрос, унаследованный у Беньямина и Брехта, дается ответ. Он весьма далек от Беньямина и Брехта, хотя эти различия в ответе подтверждают верность одному и тому же вопросу. То, что он далек от них, вызвано различием во времени и в политике; это вызвано также и различием в стиле, как языковом, так и жизненном; наконец, это вызвано различием в философии.
В самом деле, мы ведь знаем, откуда взялась эта заглавная буква: из немецкого языка, считающегося языком философии. И мы знаем, откуда взялся этот определенный артикль. Это не что иное, как артикль в греческом языке, без которого философия, вероятно, и не смогла бы начать свою речь: to ti, to ti ên einai, to on[98] и т. д. Можно даже утверждать, что со времен Ионийской школы определенный артикль единственного числа является обозначением Идеи в себе и для себя. Латиноязычные философы, не имея в своем распоряжении равнозначной морфемы, вынуждены были импортировать ее в готовом виде, как римские зодчие импортировали в готовом виде капители и колонны. Это клеймо Идеи, подобно тому как в Апокалипсисе существует знак Зверя. Как мы видели, Барт использовал его в точности таким образом. Идея против техник воспроизводимости в языке — таков его собственный жест, начиная с первых текстов.
Однако этот жест не сводится к тому, что одна техника противопоставляется другим. Он влечет за собой обширные последствия. Это типографское ухищрение и языковая процедура предупреждают нас, что каждое употребление одного и того же слова должно рассматриваться как возврат к Тому же самому, а не как охват Многого; и мы видели, что это То же самое есть не что иное, как Идея. Теперь нам следует оценить, насколько это важно. При каждом употреблении слова читателю предлагается возводить глаза к одноименной Идее, к горизонту Единого. При каждом употреблении слова он как бы превращается в философа — по-иному разворачивается тело, на иное направляется взор, к иному устремляется порыв души. Можно ли говорить здесь об epistrophè[99] неоплатоников? Конечно, но только принять всерьез этот поворот к философии — еще не все.
Встает вопрос: может ли поворот к философии оставить нетронутой самое философию? Является ли в данном случае философия равнодушной поставщицей ауры или же надо предположить, что жест Барта способен произвести в ней возмущение? Избрав окольный путь через философию, не совершает ли Барт также и новый шаг в самой философии? Я утверждаю, что да.
Есть особый философский жест, свойственный Барту. Его силу до сих пор недооценивали, потому что не понимали его генеалогию. В связи с ним справедливо называли Маркса и Сартра, но если ограничиваться только этими ориентирами, то упускаешь из виду ориентир более важный и более скрытый — Платона.
Речь не о том неопределенном платонизме, под которым подписался бы любой эллинист, воспитанный в системе классического образования; Барт достаточно ясно показал, что он об этом думает, — хотя бы в юношеском упражнении «На полях „Критона“», которое он не преминул опубликовать в 1974 году (О.С. III, р. 17–20 = 4, р. 497–501). Но есть другая отсылка к Платону, более точная и определенная, — к «Пармениду». Действительно, пользуясь определенным артиклем и заглавной буквой в связи с фантазмами того или иного лица, или с различными гранями товара, или с рубриками ежедневной Газеты, Барт последовательно и настойчиво следует предписанию, которое Парменид давал Сократу (Parm. 130а-е).
Напомним его рассуждение. Парменид спрашивает у Сократа, признает ли он, что существуют сами по себе и сами в себе Эйдосы прекрасного и доброго (130а). Сократ не колеблясь соглашается. Однако он колеблется, когда Парменид задает тот же вопрос по поводу человека, огня, воды. Наконец, он отвечает отрицательно по поводу «таких вещей […] которые могли бы показаться даже смешными, как, например, волос, грязь, сор и всякая другая не заслуживающая внимания дрянь» (130с). «Предположить для них существование какой-то идеи было бы слишком странно», — заключает он (130d). Тогда Парменид говорит ему: «Ты еще молод, Сократ […] и философия еще не завладела тобой всецело, как, по моему мнению, завладеет со временем, когда ни одна из таких вещей не будет казаться тебе ничтожной» (130е)[100].
Обратимся вновь к Барту. Есть ли в его глазах марксиста-диссидента и тайного маллармеанца что-либо более ничтожное и низменное, чем то, что скрывает в себе товарная форма, или форма Газеты, или форма Моды? Приписывая подобным предметам закон определенного артикля единственного числа, подтверждаемый недвусмысленностью заглавной буквы, он возводит их в ранг Идеи, ибо именно таков этический завет последовательного платонизма. Быть платоником перед лицом сделанного, торгашеского, пустого, преходящего, индивидуального — вот таков ныне платонизм волоса и грязи, платонизм тех, кто остается платониками в самой глубине Пещеры[101]. Героизм этой фигуры и непреклонность этого замысла в конце концов привели Барта к выходу из Пещеры, чтобы взглянуть на Свет в упор. С той лишь разницей, что Солнце Добра обратило тень гномона к часам Смерти.
5Итак, Парменид и Платон. Но генеалогия еще не полна, так как не учитывает всех языковых меток. Определенного артикля и заглавной буквы недостаточно, чтобы определить «эффект Барта», если не прибавить к ним еще одного признака.
Этот признак я обозначу термином, взятым у старинных грамматистов, — «эналлага». Enallagè — обмен, перестановка. Барт пользуется эналлагой категорий, особенно такой, когда прилагательное переходит в ранг имени. Приведу лишь несколько примеров — «lе lisse» [«гладкое»], «lе sec» [«сухое»], «l’obvie» [«наглядное»], «l’obtus» [«неподатливое»]. Могут сказать, что возводить прилагательное в ранг имени и тем самым в ранг Идеи — это то, чем всегда и занималась философия: «равное», «неравное», «истинное», «ложное», «справедливое», «несправедливое». Да, это так, но литературный французский язык этому противился — в отличие от греческого и немецкого. Он требовал для этого извинительной причины, скажем, в случаях технического или переводного термина. На это мало кто отваживался, кроме профессиональных философов в их академических трудах.
Даже и сами греческие и немецкие философы соблюдали здесь некоторую осторожность. В большинстве случаев их эналлаги относятся к «идеализируемым» предикатам, к таким, в отношении которых, без всякого сомнения, имеет смысл ставить вопрос об Идее (как бы на него ни отвечать); даже тот, кто отрицает, что существует Идея несправедливого, ложного или неравного, не может отрицать, что сам вопрос о ее существовании обладает хотя бы внешней серьезностью. Напротив, ему неизбежно придется поднимать и рассматривать этот вопрос, говоря о несправедливом, ложном и неравном. Но существует ли Идея сухого, влажного, неподатливого? В этом, возможно, усомнился бы даже Парменид, который не останавливался перед признанием Идеи грязи и волоса. Барт бесстрашно признает и такие Идеи.
Дело в том, что в философии состоялось нечто такое, что позволяет не только в греческом языке пользоваться соединенной силой артикля и эналлаги. Это «что-то» следует назвать по имени — феноменология. Скорее феноменология Сартра, чем Мерло-Понти. Немаловажный факт, что Сартр свободно пользуется эналлагой в своем трактате «Бытие и ничто»: «непристойное», «вязкое», «липкое», «вязкое», «тестообразное». В наши дни эти примеры кажутся заурядными, но в 1943 году они возмущали язык философов и ученых. Феноменология позволяет Барту пользоваться эналлагой. С помощью этого языкового приема становится возможно говорить о чувственном во всех его качественных подробностях, будь они непристойно заключены в товарную форму, или элегантно упорядочены в рамках кода, или просто предлежат благородству чувств и красоте языка. Эналлага — это исходная предпосылка свидетельства о чувственных качествах.
Однако Барт расширяет пределы эналлаги еще дальше, чем ожидалось в феноменологии. Как бы невзначай полученное от нее разрешение становится в его руках настоящим оружием, поставленным на службу Идее. Сартр послужил первооткрывателем. Как известно, в начале своей «Камеры люциды» Барт ссылается на его «Воображаемое». Этот знак почтительности весьма важен: он обозначает не столько возврат к Сартру после странствий в семиологии, сколько постоянное присутствие Сартра в мысли Барта. Присутствие в конце пути, но и в самом его начале: в 1971 году, говоря о публикации «Нулевой степени» (1953), Барт признает: «Я знал все, что можно было тогда прочесть Сартра» («Réponses» — О.С. II, р. 1311 = 3, р. 1028). Аналогично он высказывается и в 1979 году: «Какой Сартр много для меня значил? Тот, которого я открыл для себя после Освобождения, вернувшись из санатория, где я читал в основном классиков, а не современных авторов. Именно через Сартра я открыл современную литературу. Через „Бытие и ничто“, но также и через […] „Очерк теории эмоций“ и „Воображаемое“» (интервью с Пьером Бонсенном. О.С. III, р. 1072 = 5, р. 749).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре"
Книги похожие на "Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Зенкин - Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре"
Отзывы читателей о книге "Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре", комментарии и мнения людей о произведении.