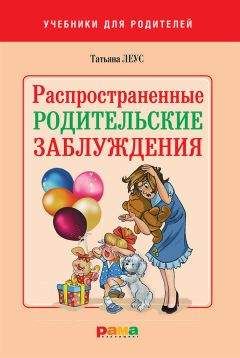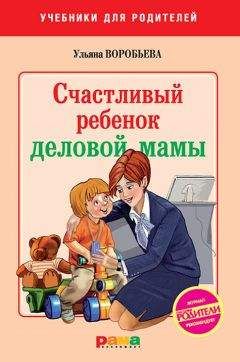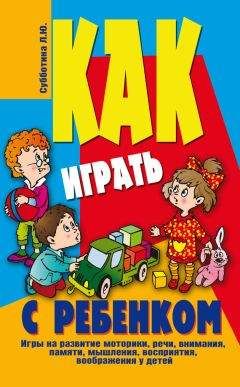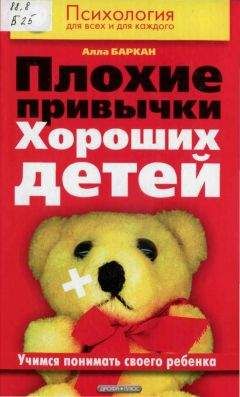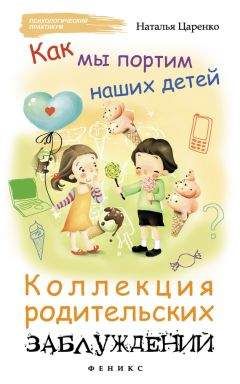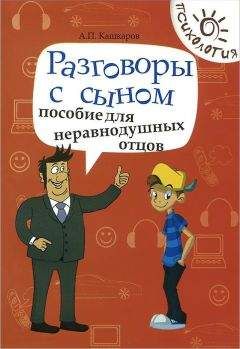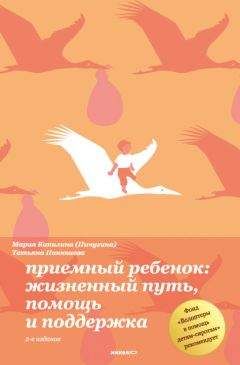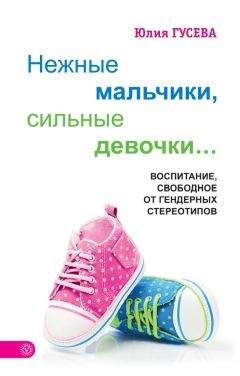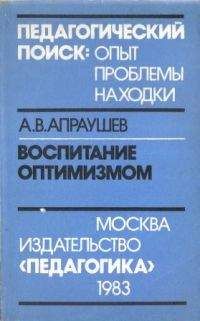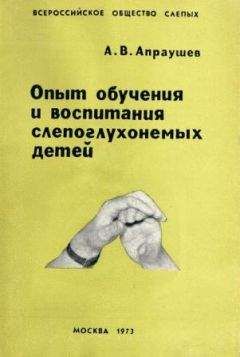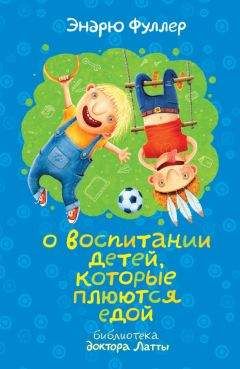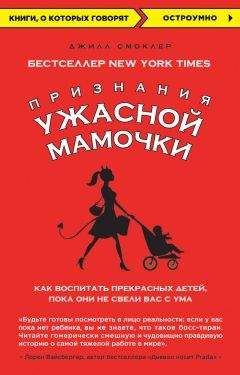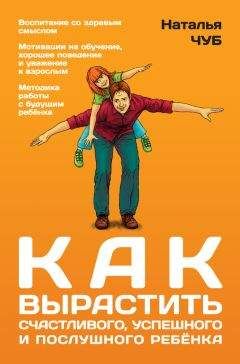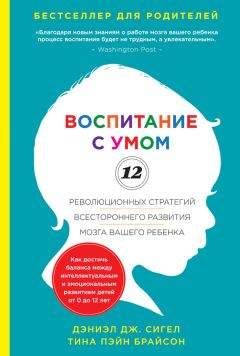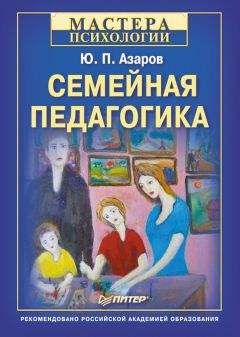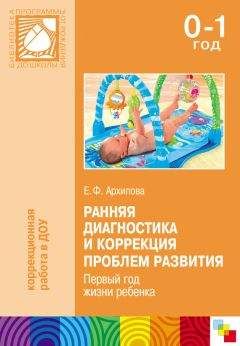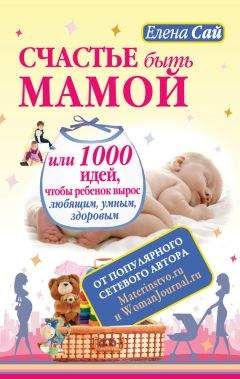Сильвия Энтони - Открытие смерти в детстве и позднее

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Открытие смерти в детстве и позднее"
Описание и краткое содержание "Открытие смерти в детстве и позднее" читать бесплатно онлайн.
Первоначальная версия книги вышла в свет еще в 1940 г. и с тех пор неоднократно переиздавалась в Западной Европе и США, по сей день оставаясь широко востребованной практикующими психологами, психиатрами и социологами многих стран. Настоящее издание является пересмотренным и увеличенным автором и основано на ее дальнейшем практическом опыте. С. Энтони исследует процесс детского восприятия смерти, анализируя, как смерть фигурирует в детских играх, сновидениях, раздумьях, и проводит многочисленные исторические и психофизические параллели, отмечая сходство реакции современных детей на смерть со старинными и даже доисторическими ритуалами.
На русском языке публикуется впервые.
Перевод: Татьяна Драбкина
Вторая модификация связана с наблюдениями развития ребенка. (Вспомним, что и сам Юм ссылался на поведение детей и «неразумных животных».) Дело в том, что в развитии ребенка есть стадия, вполне отчетливая – благо, он уже умеет говорить к тому моменту, – когда он не различает феномен и функцию. Это не осталось незамеченным детскими психологами, и здесь тоже будут даны примеры этого из домашних записей. Но если мы предположим, что животное, которое не способно к речи, не может продвинуться дальше ребенка, который к ней способен, в понимании концепции причинности, то мы должны сделать следующий вывод: собака, у которой условно-рефлекторно выделяется слюна в связи с привычным переходом от первого события, звука колокольчика, ко второму событию, появлению обеда, вовсе не умозаключает, что колокольчик предвещает еду, то есть что имеется функциональное отношение; она реагирует на одно событие, предобеденный колокольчик.
На эту тему написано много томов, и много еще будет написано, особенно после недавней публикации Нила Миллера [129] . Я здесь только излагаю положение дел, но ничего не утверждаю. Ниже следует пример из наших записей смешивания ребенком феномена и функции.
...[ДЗ 22] Бен (2 г. 5 м.) хочет, чтобы вещи на картинках, которые выглядят падающими, были поставлены прямо, а увидев корабли на картинке, сказал, что пойдет на корабль, и поставил ногу на картину, лежавшую на полу (Двумя месяцами ранее он плавал на корабле.)
Когда функция и феномен неразделимы, вещь есть то, что она делает, и делает то, что она есть или чем выглядит. Соответственно, вопрос о том, почему происходит или не происходит действие, на этой стадии возникнуть не может. В то время как Стивен (4 г. 10 м.) озадачен зрелищем мертвых птиц в мясной лавке и предполагает, что они спят, у Эдварда (2 г. 5 м.) не возникает никаких вопросов. Реакция Эдварда относится к категории А, Стивена – к категории В.
Таковы психологические механизмы, лежащие за тем фактом, что ребенок обычно не задает вопросы «Почему?» сразу, как только начинает говорить, и не выказывает интереса к смерти до тех пор, пока не достигнет стадии вопросов о причинах, основаниях, мотивах и необходимых соединениях между событиями.
Когда ребенок обретает имя для объекта, это имя репрезентирует феномен как целое, в котором функция и видимость неразделимы. Если функция является более общим признаком, чем внешний вид, ребенок может определять объект через указание функции, как, собственно, и делают дети более старшего возраста. Но способ указания несет отпечаток стадии развития. Характерный ответ маленького ребенка на вопрос «Что такое стул?» – «Чтобы сидеть». Терман в раннем комментарии к одному из тестов Бине отметил незрелость ответов такого типа [130] . Он писал, что в функциональных описаниях, обычно даваемых детьми, «обнаруживаются две грамматические формы, значимо коррелирующие с интеллектуальным возрастом; использование инфинитива и безличной формы – более ранняя из них. Ребенок с более высоким интеллектуальным возрастом скажет: «На нем сидят»». Различие отражает процесс разведения феномена и функции. Функция «место для сидения» – характеристика стула; в более ранней формулировке сидение еще не вполне воспринимается как отношение между двумя независимыми объектами. Более зрелый ответ свидетельствует о том, что взаимоотношение стало частью общей концептуальной схемы. Взрослым же он часто кажется, напротив, менее продвинутым, чем ранняя безличная формулировка, тем более что на следующей стадии вновь появляется безличность, уже соединенная с отдельным представлением о функции: стул определяется тогда как предмет мебели, предназначенный для сидения. Аналогично, безличность определений понятия мертвый, характерных для стадии В (пойти спать, больше ничего не делать) выглядит более зрелой, чем ответы категории С: «когда человек умирает» или «тот, кого убили», – на самом деле соответствующие более зрелой форме типа «на нем сидят».
Категория В характерна для той стадии, когда вопросы почему идут потоком. Этот вербальный поиск причин указывает на активность, прежде блокированную сосредоточением на процессе приобретения имен для феноменов. Усвоение существительных включает связывание, или, в терминах Спирмена [131] , обнаружение общностей. Вербальное выявление отношений инициировано стадией почему.
Согласно предлагаемой ревизии теории причинности Юма, привычное единство событий в опыте вначале обеспечивает базис для рефлекторных реакций младенца, а впоследствии – для умозаключений о необходимом соединении, то есть о причинно-следственном отношении. Но каким образом происходит переход от первого ко второму?
Немецкий психолог Вильгельм Штерн [132] полстолетия назад критиковал теорию Юма, исходя из своих наблюдений за детьми. Он утверждал: вовсе не ожидание, порожденное привычным опытом, дает начало идее причины у детей, а то, что ожидаемое не происходит; концепция причины рождается из удивления и неожиданности. Однако, добавлял он, отсутствие ожидаемого единства событий не вполне объясняет наблюдаемое поведение детей, – то, что они стремятся также найти причины новых для них событий и феноменов. Он приводил идею Гельмгольца (Helmholtz) о том, что такое поведение связано с бессознательными представлениями ребенка. Гельмгольц использовал понятие бессознательного до того, как Фрейд придал ему теперешний психоаналитический смысл; возможно, Штерн, приводя слова Гельмгольца, имел в виду, что мы не можем знать, какое именно единство событий явилось новым в опыте ребенка. Привычное появление матери, которая приходит успокоить плачущего младенца, может порождать зачаток идеи необходимого соединения и тем самым – психогенетический базис концепции причины.
Штерн не разрешил проблему, но, я думаю, он дал ключ к решению. Несомненно, ожидания, порожденные привычным опытом, недостаточны для возникновения концепции причины, и, хотя удивление от нарушения ожиданий явно играет здесь роль, его также недостаточно. В лабораторных экспериментах на животных часто воспроизводили нарушение ожиданий, и результатом было угасание условно-рефлекторного ответа. Предобеденный звук колокольчика становился просто звуком колокольчика. Следуя теории Юма, мы можем сказать: соединение между событиями, которое было сочтено необходимым, оказалось разорвано. Согласно альтернативной теории, феномен (неразрывное слияние видимости и функции) изменил свой характер, свою природу. Единственная необходимость состоит в субъективной адаптации к изменившейся природе феномена; это биологическая необходимость, а не умозаключение. Экспериментатор иногда сообщает, что животное «угасло» [133] , хотя в действительности оно никак не пострадало. И концепцию причины тоже явно не сформировало.
Относительно «ключа»: нарушение ожиданий необходимо для порождения концепции причины, но его недостаточно до тех пор, пока ребенок не достигнет стадии выделения функции из тотальности объекта. Концепция причины тогда возникает не в результате привычного опыта соединения событий и не в результате прекращения этого соединения, а вследствие изменения в ожидаемом отношении между функцией и видимостью феномена. Для концепции смерти этой функцией часто, но не обязательно, оказывается движение. Пиаже приводит пример, касающийся жизни растений.
...[ПИ 18.] Дел (6 лет с чем-то): «Они [розы на розовом кусте] все завяли – почему? Они не должны умереть, потому что они еще на дереве» [134] .
Примером частой ранней ассоциации смерти с неподвижностью может служить запись об Урсуле (цитированная выше, [ПИ 9]), которая спрашивала, почему краб не шевелится. Ребенок не мог бы задать этот вопрос, если бы уже не достиг стадии разделения феномена и функции. Приводимое в сноске наблюдение, принадлежащее Скапину (G. Scupin), цитировалось Пиаже [135] и Натаном Исааком (Nathan Isaacs) [136] . В нем смерть отождествляется с неподвижностью.
Пиаже отмечал озабоченность мальчика 6–7 лет темой смерти и считал это важным аспектом процесса формирования зрелых концепций причинности: по его мнению, переход от ранних стадий мышления к более зрелым мотивируется поиском истоков и объяснений существования вещей. Все кажется в полном порядке, – говорит Пиаже, – пока ребенок не начинает отдавать себе отчет в разнице между жизнью и смертью. «С этого момента идея смерти возбуждает любопытство ребенка, – именно поскольку каждая причина подразумевает мотив, смерть требует особого объяснения». Разумеется, смерть нельзя объяснить мотивами существа, которое умерло: в случае животных вопрос о самоубийстве не возникает, что касается людей, то он не приходит ребенку в голову. Если смерть отнести за счет активности других людей, то ей еще можно дать каузальное объяснение. Очевидно, так бывает: например, – когда животных убивают ради пищи или когда опасных для человека животных убивают ради защиты человеческой жизни. Бывает также, что люди убивают людей, – и, как мы видели, некоторые дети определяют мертвый как убитый. Валлон [137] приводит ответ ребенка, который нашел логическое решение проблемы причинности, смерти и мотивации, соответствующее тому, чему его учили о законах Бога и человека:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Открытие смерти в детстве и позднее"
Книги похожие на "Открытие смерти в детстве и позднее" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сильвия Энтони - Открытие смерти в детстве и позднее"
Отзывы читателей о книге "Открытие смерти в детстве и позднее", комментарии и мнения людей о произведении.