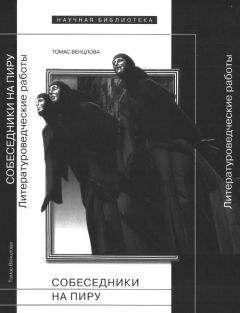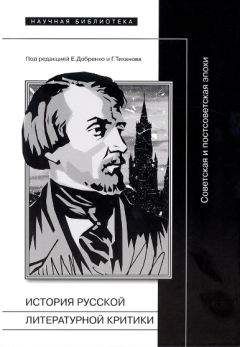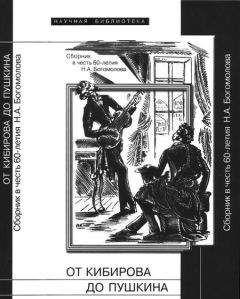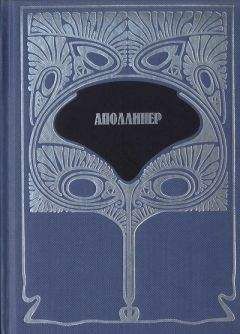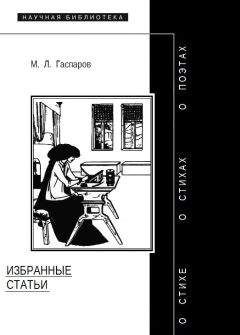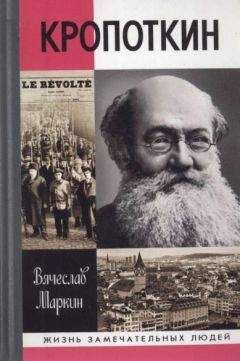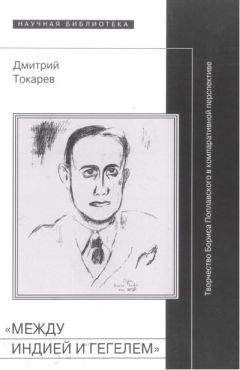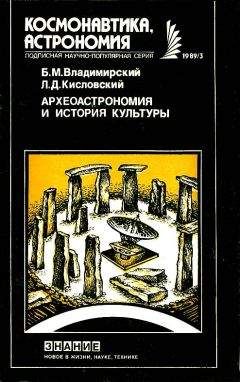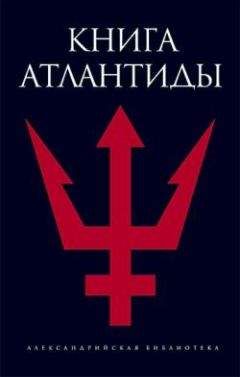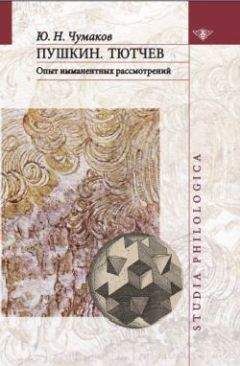Андрей Ранчин - «На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Описание и краткое содержание "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена анализу интертекстуальных связей стихотворений Иосифа Бродского с европейской философией и русской поэзией. Рассматривается соотнесенность инвариантных мотивов творчества Бродского с идеями Платона и экзистенциалистов, прослеживается преемственность его поэтики по отношению к сочинениям А. Д. Кантемира, Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. Ф. Ходасевича, В. В. Маяковского, Велимира Хлебникова.
Поэтика «математизации» Бродского — частный случай установки на абстрагирование. Эта установка проявляется и в пристрастии к обобщающим суждениям, и в сведении единичных вещей к абстрактным сущностям или к мифологическим архетипам:
Три старухи с вязаньем в глубоких креслах
толкуют в холле о муках крестных;
пансион «Аккадемиа» вместе со
всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот
телевизора; сунув гроссбух под локоть,
клерк поворачивает колесо.
Три старухи здесь обозначают и трех реальных пожилых дам — обитательниц пансиона, и Парок, прядущих нить судьбы, а клерк — не только клерк, но и бог времени.
Неразличение, уравнивание знака и вещи.
Этот повторяющийся прием Бродского проистекает из представления о сходстве, изоморфности мира и текста (языка, звука, буквы, слова, рисунка, картины). Некоторые примеры: «Густой туман / листал кварталы, как толстой роман» («Перед памятником А. С. Пушкину в Одессе», 1969 (?), 1970 (?) [IV (1); I])[85]; «здесь и скончаю я дни, теряя / волосы, зубы, глаголы, суффиксы» («1972 год», 1972 [II; 292]); «на площадях, как „прощай“ широких, / и улицах узких, как звук „люблю“» («Лагуна», 1973 [II; 320])[86]; «и в гортани моей <…> чернеет, что твой Седов, „прощай“» («Север крошит металл, но щадит стекло» из цикла «Часть речи», 1975–1976 [II; 398]); «Человек превращается в шорох пера по бумаге, в кольца, / петли, клинышки букв и, потому что скользко, / в запятые и точки. <…>» («Декабрь во Флоренции», 1976 [II; 384]); «Отсутствие мое большой дыры в пейзаже / не сделало; пустяк: дыра, — но небольшая. / Ее затянут мох или пучки лишая, / гармонии тонов и проч. не нарушая» («Пятая годовщина (4 июня 1977)» [II; 421]); «Склоны, поля, овраги / повторяют своей белизною скулы. / <…> / И в занесенной подклети куры / <…> / кладут непорочного цвета яйца. / Если что-то чернеет, то только буквы. / Как следы уцелевшего чудом зайца» («Стихи о зимней кампании 1980 года», 1980 [III; 11]); «Нарисуй на бумаге простой кружок. / Это буду я: ничего внутри. / Посмотри на него — и потом сотри» («То не Муза воды набирает в рот» [III; 12]); «Жужжанье мухи, / увязшей в липучке, — не голос муки, / но попытка автопортрета в звуке / „ж“. Подобие алфавита, / тело есть знак размноженья вида / за горизонт»; «И долго среди бугров и вмятин / матраса вертишься, расплетая, / где иероглиф, где запятая» (оба примера — из «Эклоги 5-й (летней)», 1981 [III; 37, 41]); «Я всматриваюсь в огонь. / На языке огня / раздается „не тронь“ / и вспыхивает „меня“» («Горение», 1981 [III; 29]); «Рим, человек, бумага» («Римские элегии», 1981 [III; 47]); «<…> смех громко скрипел, оставляя следы, как снег, / опушавший изморозью, точно хвою, края / местоимений и превращавший „я“ / в кристалл, отливавший твердою бирюзой, / но таявший после твоей слезой» («Келломяки», 1982 [III; 60]); «Эти горы — наших фраз / эхо»; «Горы прячут, как снега, в цвете собственный глагол» («В горах», 1984 [III; 84–86]); «И более двоеточье, чем частное от деленья / голоса на бессрочье, исчадье оледененья, / я припадаю к родной, ржавой, гранитной массе / серой каплей зрачка, вернувшейся восвояси» («Вот я и снова под этим бесцветным небом…», 1990 [IV (2); 92])[87]; «Хоть приемник включить, чтоб он песни пел. / А не то тишина и сама — пробел» («Метель в Массачусетсе», 1990 [IV (2)]); «Видимо, шум листвы <…>/<…>/ пользовался каракулями <…>» («Воспоминание», 1995 [IV (2); 196]).
Черный и белый цвета ассоциируются с бумагой и шрифтом (алфавитом) и с живописью (с картинами Казимира Малевича — это поэтическая формула Бродского): «Вычитая из меньшего большее, из человека — Время, / получаешь в остатке слова, выделяющиеся на белом / фоне отчетливей, чем удается телом / это сделать при жизни, даже сказав „лови!“» («В Англии», VII [II; 439]); «Так родится эклога. Взамен светила / загорается лампа: кириллица, грешным делом, / разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли, / знает больше, чем та сивилла, / о грядущем. О том, как чернеть на белом, / покуда белое есть, и после»; «Днем, когда небо под стать известке, / сам Казимир бы их не заметил, // белых на белом» (оба примера — из «Эклоги 4-й (зимней)» [III; 16, 18]); «Белый на белом, как мечта Казимира» («Римские элегии», 1981 [III; 48]).
Этот созвучный поэтике барокко[88] прием поддержан другим — приемом наделения поэтической, словесной формы иконической функцией. текст у Бродского не просто описывает предметы, но иногда их изображает, подобно искусствам, построенным на иконических знаках, — таким, как живопись или кинематограф. Такая установка присуща многим поэтическим системам (например, барокко) и не является отличительным признаком именно поэтики Бродского[89]. Но у Бродского она выражена довольно отчетливо и даже настойчиво. Иконическую функцию у Бродского получают графическая форма слова и положение буквы в слове:
«Как ты жил в эти годы?» — «Как буква „г“ в „ого“».
«Опиши свои чувства». — «Смущался дороговизне».
«Что ты любишь на свете сильней всего?»
«Реки и улицы — длинные вещи жизни».
В этих строках превращение конвенциональных знаков — буквы и слова — вступает в сложную игру с контекстом. Положение буквы «г» в слове «ого» ассоциируется с зажатостью, несвободой, и эта семантика вступает в противоречие с утвердительным, позитивным смыслом самого восклицания — создается самоотрицание. Но буква «г» в русском языке еще и эвфемистическое сокращение слова «говно». В словах «говно» и «говенно» так же, как и в слове «ого», две буквы «о», и «ого» можно считать окказиональным эвфемизмом, замещающим «неприличное» словцо. Таким образом, ответ может быть прочитан как «говенно».
О «длинных вещах жизни» сказано в стихе, который кажется длиннее соседних: «Реки и улицы — длинные вещи жизни». Этот эффект вызван, во-первых, тем, что стих состоит не из нескольких предложений и даже не из одного, как предыдущие строки, но является эллиптической конструкцией. Монотония задается также повтором гласных е — и — у — и — ы — и — ы — и — е — и — ы — и.
Длина строк, число слогов в стихе зримо изображают разворачиваемый веер:
Умолкает птица.
Наступает вечер.
Раскрывает веер
испанская танцовщица.
Первая строка совпадает с границами предложения, вторая — тоже, но предложение, в котором сказано о раскрываемом веере, уместилось в два стиха — третий и четвертый. Эта пара строк — графическое подобие раскрытого веера. Последняя из строк, четвертая, длиннее предыдущих — в ней восемь, а не шесть слогов: строка словно раскрылась подобно вееру.
Иконическую функцию в поэзии Бродского выполняет и enjambement, например в уже цитировавшемся стихотворении «1972 год»:
Полночь швыряет листву и ветви на
кровлю. Можно сказать уверенно:
здесь и скончаю я дни, теряя
волосы, зубы, глаголы, суффиксы.
Межстиховая пауза после слова «теряя» как бы отрезает от него утрачиваемые лирическим героем «волосы, зубы, глаголы, суффиксы». А пауза после «ветви на» передает эффект бросания ветвей и листьев на кровлю. Неправильная форма глагола — «скончаю» или как искажение правильного «закончу» (з(а)кончаю — скончаю) или как «сокращение» глагола «скончаюсь» (скончаюсь) — скончаю) — воссоздает эту ожидаемую потерю «морфем» родного языка на чужбине.
Установкой на неразличение знака и денотата объясняются такие особенности поэтики Бродского, как реализация, овеществление метафор и пристрастие к особому роду метафор — к метафорам-идентификациям типа «А есть В»: «Сухая, сгущенная форма света — / снег <…>»; «Время есть холод» (оба примера — из «Эклоги 4-й (зимней)» [III; 13, 14])[90].
Поэтика суждений.
Поэзия Иосифа Бродского имеет особенное философское измерение. Как заметил М. Ю. Лотман, многие стихотворения Бродского могут рассматриваться как обобщающие суждения, соединенные цепью образов[91]. Частая у Бродского строка — или простое суждение типа «А есть В», или суждение сложное, в котором пропозиции соединены между собой согласно принципу утверждения и вывода, или условия и результата: А поэтому В; если А то В; А но В и т. п. Однако «элементы» этих конструкций — слова, понятия, ситуации и т. д. — не предусматривают каких-либо логических соотношений. Эти отношения устанавливает и «навязывает» только сам поэт. Соответственно эти суждения не могут быть истинными или ложными, хотя могут казаться таковыми. Внутренняя логика, создаваемая поэтом, загадочна, окказиональна и обусловлена контекстом.
Вот ряд примеров: «<…> вблизи вулкана / невозможно жить, не показывая кулака; но / и нельзя разжать его, умирая, / потому что смерть — это всегда вторая / Флоренция с архитектурой рая» («Декабрь во Флоренции», 1976 [II; 383]). В этом фрагменте частное (остающееся в подтексте) заменено общим. Подтекст этих строк — история изгнания Данте из Флоренции. Она, оставаясь в подтексте, обладает детерминирующими коннотациями. Она как бы повторяется — как причина изгнания и злоключений каждого отдельного человека или каждого поэта. Глагольные инфинитивные формы, имеющие генерализующий характер, прочитываются как невозможно и нельзя. Но это обобщение выражено в форме конкретного, единичного события. Вместо подразумеваемого высказывания о поэте (определенном человеке), протестующем против окружения, против обстоятельств, что приводит к его изгнанию, мы видим образы, связанные с определенным местом, и конкретные жесты: «вблизи вулкана / невозможно жить, не показывая кулака». Строки, содержащие высказывание: «но / и нельзя разжать его, умирая, / потому что смерть это всегда вторая / Флоренция с архитектурой рая», — могут быть прочитаны двояко, а именно так: во-первых, — поэт (определенный человек) изгнан навечно; и, во-вторых, — в то же время он остается навечно в культуре и памяти, даже если подвергся изгнанию и проклинает своих преследователей, подобно Данте, который заключен в памяти флорентийцев, как в вечной темнице. Бродский преобразовывает частный случай Данте в полуподтекстовое обобщение — утверждение благодаря сотканной им сети утверждений: Данте изгнан; статуя Данте остается во Флоренции; статуя не может разжать кулак (статуя — символ смерти в поэтической мифологии Бродского); смерть Данте — один из ликов вечности; Рай есть вечность; Данте написал кантику «Рай»; Флоренция — потерянный Рай для изгнанника Данте. Стихотворение, однако, устанавливает связи не прямо между этими базовыми утверждениями, а между их элементами — образами, символами, знаками. Жесткая структура сигнификации при этом разрушается: один знак соответствует более чем одному базовому утверждению.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Книги похожие на "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Ранчин - «На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Отзывы читателей о книге "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского", комментарии и мнения людей о произведении.