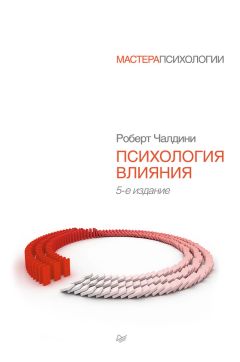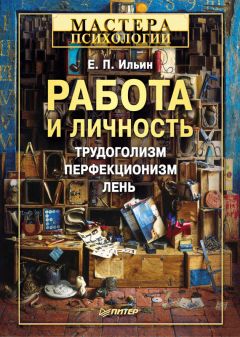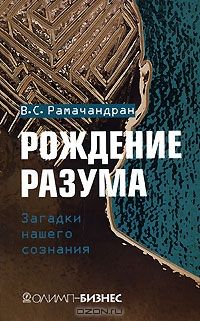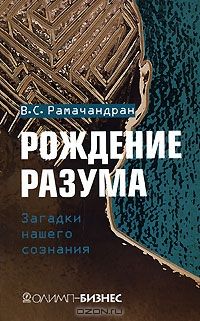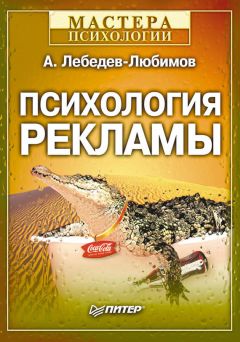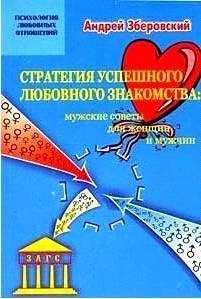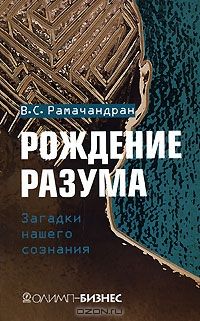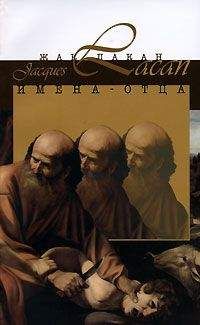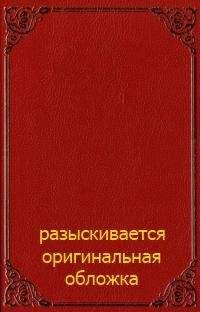Жан-Поль Сартр - Воображаемое. Феноменологическая психология воображения

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Воображаемое. Феноменологическая психология воображения"
Описание и краткое содержание "Воображаемое. Феноменологическая психология воображения" читать бесплатно онлайн.
Работа Сартра «Воображаемое» («L’Imaginaire») представляет собой произведение известного философа, созданное в конце 30-х годов и обнаруживающее сильное влияние уже опубликованных к тому времени феноменологических трудов Э. Гуссерля. Автор словно выполнял задание учителя, наметившего основные направления феноменологической дескрипции всевозможных предметов интенционального сознания. Сартр выбирает одну из наиболее существенных и интригующих способностей человеческого разума — воображение. В работе «Воображение» («L’Imagination»), появившейся несколько ранее, он проводит критический анализ теорий ментального образа, появившихся со времен Декарта. Теперь же, следуя основной методической мысли Гуссерля, он берется осуществить феноменологическое описание деятельности воображения и ноэматического коррелята этой деятельности — воображаемого, образа.
Довоенная работа Сартра сохраняет свое значение как в области применения фундаментальных философских методологий, так и в теории искусства и предмета художественного творчества. Осуществленная автором скрупулезная феноменологическая дескрипция представляет собой крайне поучительный опыт, а кроме того, тесно связана с литературным творчеством автора, в частности с появившимся примерно в то же время романом «Тошнота».
«Воображаемое» замыкает собой серию работ Сартра по психологии. В том, что «Воображаемое» — книга по психологии, изучающии ее человек убеждается немедленно, столкнувшись с обилием в ней специального, чисто психологического материала (особенно много его во второй и третьей частях книги). И все же перед нами не просто книга по психологии. Это философская книга. Это книга по философии психологии. Она в большей степени посвящена философии, чем психологии. Тут немаловажным является и то обстоятельство, что она вышла из печати всего за три года до того, как было опубликовано «Бытие и ничто». Промежуток времени небольшой. Поэтому неудивительно, что в «Воображаемом» можно обнаружить зачатки тех философских идей, которые достигли зрелости в «Бытии и ничто».
Jean-paul sartre
L’imaginaire Psychologie phenomenologique de l’imagination
GALLIMARD
Второй характерной чертой этих систем является, как мы сказали, их абсурдность. Они предстают как простой вздор, словесная игра и каламбур, как внезапно вырвавшееся ругательство и т. д. Сама эта абсурдность и дает нам ключ к их строению. В самом деле, все, что существует в сознании, должно для нас выражаться в терминах сознания, и мы, по всей видимости, не можем допустить наличие спонтанности, которая, даже достигнув его надстройки, била бы ключом из некоей затененной зоны, не будучи осознана сама по себе. Такая трактовка спонтанности представляет собой лишь неявное допущение существования бессознательного. Таким образом, нам кажется, что посредством этих абсурдных систем сознание мыслит свое наличное состояние, то есть состояние этой сумеречной нивелировки. Речь не идет ни об обычной мысли, полагающей объект перед субъектом, ни о мысли об этом сумеречном состоянии. Но в каком-то участке этого сознания, не способного к сосредоточению, на его границах, в изолированном и скрытом виде возникает некая частная система, которая и есть мысль об этом сумеречном состоянии или, если угодно, само это сумеречное состояние. Речь идет о некоей символической образной системе,[105] коррелятом которой является ирреальный объект — бессмысленная фраза, каламбур, неуместное видение. Она предстает и выступает как спонтанность, но, прежде всего, как спонтанность безличная. В самом деле, мы весьма далеки от того, чтобы проводить различие между субъективным и объективным. Оба этих мира рухнули: здесь мы имеем дело с третьим типом существования, для характеристики которого не хватает слов. Может быть, проще всего было бы назвать эти явления побочными ирреальными явлениями, коррелятивными безличному сознанию.
Таково то, что мы могли бы назвать чистым событием галлюцинации. Но это событие не совпадает с чистым опытом галлюцинации: в самом деле, опыт подразумевает наличие тематического сознания, связанного единством личности; напротив, галлюцинаторное событие, всегда происходящее в отсутствие субъекта, отрицает сознание этого типа. Одним словом, галлюцинация представляет собой феномен, опытное познание которого можно осуществить лишь по памяти. Впрочем, речь идет о непосредственной памяти, что означает, что галлюцинация не будет иметь места, пока эти частные системы по-прежнему развиваются в нейтрализованном сознании: в этом случае мы оказываемся ближе к сновидению. Галлюцинация подразумевает резкое противодействие сознания частной системе за счет быстрого сосредоточения, сопровождаемого резким восстановлением тематического единства. При неожиданном и неуместном появлении ирреального объекта в сознании должна пробежать волна удивления или ужаса, приводящая к пробуждению, к перегруппировке сил, подобно тому, как внезапно раздавшийся треск тотчас же будит спящего. Сознание вооружается, ориентируется, изготавливается к наблюдению, но ирреальный объект, разумеется, уже исчез и оно обнаруживает перед собой одно лишь воспоминание. Остается, следовательно, описать, каким предстает для него это воспоминание.
Прежде всего, следует особенно настаивать на том обстоятельстве, что, если ирреальный объект и не находится перед сознанием собственной персоной, то все же речь идет о непосредственном воспоминании, сколь возможно ярком и конкретном, одном из тех воспоминаний, которые не дают повода в них усомниться и в которых оказывается схвачена непосредственная достоверность существования их объекта. Но существенная черта ирреального объекта, поставляемого воспоминанием, состоит в его внеположное™ по отношению к актуальному личностному сознанию. Он предстает тем, что невозможно было предвидеть и что не может быть воспроизведено волевым усилием. Его нельзя включить в наличный синтез, он никогда не будет ему принадлежать. Очевидно, что эти внеположность и независимость очень близки внеположное™ и независимости объектов реального мира. Впрочем, в то же самое время объект сохраняет и характерные черты спонтанности: он капризен, скрытен и полон тайн. Но возникает вопрос, в самом ли деле он сохраняет свой ирреальный характер? Если бы он его сохранял, то эта мера ирреальности, вкупе с непредвиденностью и внеположностью, как мы их определили выше, лишь подчеркивала бы противоречивый и фантастический характер галлюцинации. Больной тем не менее может перевести свой опыт на наш язык, используя выражения «я видел, я слышал и т. д.». Но похоже, что объект не предстает в воспоминании как ирреальный: в самом деле, в ходе события полагание ирреальности не осуществлялось; просто порождение ирреального объекта сопровождалось нететическим сознанием ирреальности. Это нететическое сознание не переходит в воспоминание, поскольку, как мы уже выяснили, воспоминание о прежде воспринятом объекте раскрывает нам ирреальное тем же способом, что и реальность, и для того, чтобы одно можно было отличить от другого повторно, требуется, чтобы то и другое в момент своего появления сопровождалось эксплицитным полаганием реальности или ирреальности.[106] Нам кажется, что галлюцинаторный объект будет, скорее, сохранять в воспоминании свой нейтральный характер. Не непосредственное воспоминание, а именно общее состояние больного придаст этим явлениям реальность. Доказательством этому может служить тот факт, что в случае переутомления или алкогольной интоксикации каждый может столкнуться с галлюцинацией, но в непосредственном воспоминании она раскроется для него именно как галлюцинация. В случае же психоза влияния происходит некая кристаллизация и больной отныне организует свою жизнь в связи с галлюцинациями, то есть снова и снова думает о них и их объясняет. Кроме того, будучи совершенно непредсказуемыми и фрагментарными, эти спонтанности могут, по-видимому, мало-помалу наполняться идейным и аффективным материалом. Больной, несомненно, будет понемногу воздействовать на свои галлюцинации, что подтверждается формированием защитных механизмов на поздних стадиях хронического галлюцинаторного психоза. Воздействие это осуществляется, скорее, за счет цементирования, соучастия, а не прямого вмешательства. Во всяком случае, в устоявшемся психозе галлюцинации, по-видимому, играют функциональную роль: конечно, больной прежде всего привыкает к своим видениям, но явления и голоса проникают друг в друга, и результатом этого обоюдостороннего приспособления, несомненно, становится общее состояние больного, которое можно было бы назвать галлюцинаторным поведением.
Глава 4. Сновидение
Аналогичная проблема возникает и в случае сновидения. Декарт формулирует ее в своем первом «Размышлении»:
«Однако надо принять во внимание, что я человек, имеющий обыкновение по ночам спать и переживать во сне то же самое, а иногда и нечто еще менее правдоподобное, чем те несчастные — наяву. А как часто виделась мне во время ночного покоя одна и та же картина — будто я сижу здесь, перед камином, одетый в халат, в то время как я раздетый лежал в постели! Правда, сейчас я бодрствующим взором вглядываюсь в свою рукопись, голова моя, которой я произвожу движения, не затуманена сном, руку свою я протягиваю с осознанным намерением — спящему человеку все это не случается ощущать столь отчетливо. Но на самом деле я припоминаю, что подобные же обманчивые мысли в иное время приходили мне в голову и во сне; когда я вдумываюсь в это внимательнее, то ясно вижу, что сон никогда не может быть отличен от бодрствования с помощью верных признаков; мысль эта повергает меня в оцепенение, и именно это состояние почти укрепляет меня в представлении, будто я сплю».[107]
Эта проблема может быть выражена следующим образом: если справедливо, что мир сновидения дан как реальный и воспринимаемый мир, в то время как конституирован он ментальной образностью, то не отыщется ли хотя бы один случай, когда образ оказывается дан как восприятие, то есть когда порождение образа не сопровождается нететическим сознанием образной спонтанности? И если бы такой случай действительно отыскался, то разве тем самым не была бы полностью разрушена наша теория образа? Разумеется, относительно сновидения возникает и много других вопросов: например, вопрос о символической функции его образов, а также вопрос о грезящем мышлении и т. д. Но эти вопросы не относятся непосредственно к нашему исследованию: мы ограничимся здесь обсуждением проблемы присущего сновидению способа полагания, то есть такого интенционального утверждения, которое конституируется сновидческим сознанием (la conscience revante).
Первое замечание к руководству таково: в приведенном отрывке из Декарта содержится некий софизм. Мы еще ничего не знаем о сновидении, повстречаться с которым непросто, поскольку мы можем его описать только пользуясь бодрствующей памятью. Напротив, существует установленный Декартом термин сравнения, с проявлением которого я легко могу встретиться: это бодрствующее и воспринимающее сознание. В любой момент я могу сделать его объектом рефлексивного сознания, которое достоверным образом раскроет мне его структуру. Так, это рефлексивное сознание сразу же поставляет мне очень ценное сообщение: возможно, что в сновидении я лишь воображаю, что воспринимаю нечто; однако достоверно, что во время бодрствования я не могу сомневаться в своем восприятии. Каждый может на секунду притвориться, что видит сон, что книга, которую он читает, ему снится, но он тотчас увидит что у него нет — возможности усомниться в этом и что его вымысел абсурден. И, по правде говоря, его абсурдность не меньше, чем абсурдность высказывания «возможно, что я не существую», — высказывания, которое Декарт считал воистину немыслимым. В самом деле, высказывание cogito ergo sum[108] — если оно правильно понято — происходит из интуиции, согласно которой сознание и существование суть одно и то же. Но это конкретное сознание, существование которого достоверно, существует и сознает, что существует, в той мере, в какой оно обладает индивидуальной и временнбй структурой. Это cogito, безусловно, может быть интуитивным постижением внутренней связи между определенными сущностями, и именно так оно понимается, например, в феноменологии, являющейся эйдетической наукой. Но для того чтобы оно могло быть таковым, необходимо сначала, чтобы оно представляло собой индивидуальную и конкретную рефлексивную операцию, которая всегда может быть нами выполнена. Однако думать, что я существую, когда мыслю, значит делать эйдетическое высказывание, разновидностью которого является высказывание «я существую, когда воспринимаю». Таким образом, когда я воспринимаю, я не уверен в том, что существуют объекты моего восприятия, но уверен в том, что воспринимаю их. Впрочем, нужно заметить, что Декарт не стал устанавливать сомнительный характер восприятия, обращаясь к нему напрямую, что он мог бы сделать, сказав себе: когда я что-либо воспринимаю, я никогда не знаю наверное, воспринимаю я это или вижу во сне. Напротив, он считает очевидным, что человек, который воспринимает, воспринимает осознанно. Декарт попросту замечает, что человек, который видит сон, в свою очередь обладает аналогичной достоверностью. Есть, конечно, расхожая формула: «надо себя ущипнуть, чтобы убедиться в том, что не спишь», но речь тут идет лишь о метафоре, которой в умах тех, кто ею пользуется, ничто конкретное не соответствует.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Воображаемое. Феноменологическая психология воображения"
Книги похожие на "Воображаемое. Феноменологическая психология воображения" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Жан-Поль Сартр - Воображаемое. Феноменологическая психология воображения"
Отзывы читателей о книге "Воображаемое. Феноменологическая психология воображения", комментарии и мнения людей о произведении.