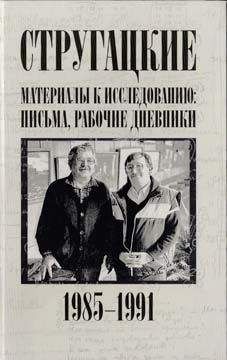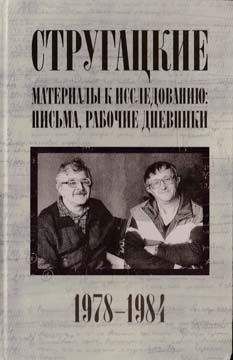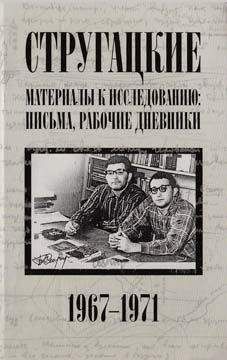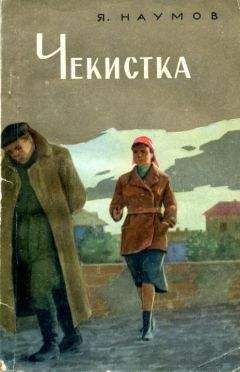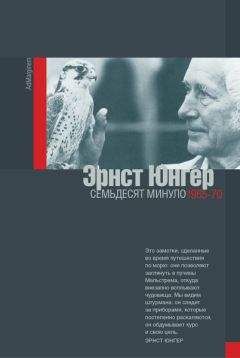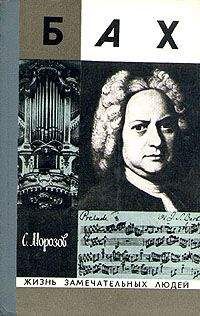Борис Тарасов - Чаадаев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Чаадаев"
Описание и краткое содержание "Чаадаев" читать бесплатно онлайн.
Жизнеописание выдающегося русского мыслителя Петра Яковлевича Чаадаева основано на архивных материалах. Автор использует новые тексты (письма, статьи, заметки, записи на полях книг), черновики и рукописи философа, а также неизданную переписку его современников и неопубликованные дневники его брата. Сложный и противоречивый путь нравственных исканий Чаадаева раскрывается в контексте идейных, литературных и социальных течений первой половины XIX века.
IV глава
РОЖДЕНИЕ МЫСЛИТЕЛЯ
1
Более трех лет Чаадаев не видел Москвы, и после больших европейских городов ему резко бросились в глаза ее особенности, как-то не замечавшиеся ранее в привычном течении каждодневной жизни. Он въезжал в древнюю столицу скорее всего в один день с Пушкиным, 8 сентября 1926 года, и видел перед собой те же картины, что и поэт, представивший их в седьмой главе «Евгения Онегина» при описании прибытия в нее семейства Лариных.
Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!..
Пошел! Уже столпы заставы
Белеют; вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах…
В приведенных пушкинских строках словно заключено поэтическое «резюме» московского своеобразия, в котором выделяются главы многочисленных храмов, создающих архитектурное единство города. С другой стороны — на фоне этого единства подчеркивается пестрота деталей, отражающих растекающуюся многоликость идущей здесь жизни, вобравшей в себя городские (чертоги, дворцы, бульвары, магазины мод, львы на воротах) и сельские (мужики, бабы, лачужки, лавки, огороды, сани) приметы. Такая Москва, раскинувшая на огромном пространстве свои кривые переулки и улицы с «ухабами», казалась Петру Чаадаеву полугородом-полудеревней. К гостинице Лейба, где путешественник намеревался остановиться он ехал по улицам, о которых в одном из очерков начала 30-х годов прошлого века говорится: «Улица московская не в улицу, если на ней нет продажи овощных товаров — иногда с прибавкою рому, виноградных вин и водок и руки с картами, показывающей, что тут можно и карты купить; ресторации с самоваром на вывеске, или рукою из облаков, держащей поднос с чашками с подписью: съестной трахътир; немца-хлебника с золотым кренделем, иногда аршина в два, над дверью; цырюльни с изображением дамы, у которой кровь фонтаном бьет из руки; в окошке обыкновенно торчит завитая голова засаленного подмастерья и видна надпись над дверью: бреют и кровь отворяют; портретной лавочки и продажи пива и меду с пивным фонтаном из бутылки в стакан на вывеске…»
Но почему же, вопрошал себя возвратившийся путешественник, кажется каким-то ленивым и неосмысленным малолюдное движение на этих «смешных» улицах, из-за которых то там, то здесь выглядывали сады и огороды? Почему на них так много храмов и нет промышленных гигантов, стеклянных витрин с «сокровищами мира», парламентских зданий, многочисленных театров, научных выставок, музеев, бассейнов, фонтанов, статуй, разнообразных исторических памятников?.. Ответы на подобные вопросы он попытается дать спустя два года в своих философско-исторических размышлениях.
2
Внимание Петра Чаадаева целиком поглощено предстоящей встречей с Пушкиным, о приезде которого в Москву он узнал, едва поселившись в гостинице. Они не виделись шесть с половиной лет, и за это время его юный ученик, конечно, должен был измениться. Но как? К каким задачам направилась неуемная жажда поэта все испытать и испробывать, кого любит его открытое бытию сердце, чему служит острый и живой ум? А что, если oн укрепился в бунтарских и либеральных воззрениях своей молодости, способных теперь развести их в разные стороны? Да и его каламбуры по поводу Священного писания резали бы теперь ухо отставного ротмистра.
Чаадаев не подозревал, как глубоки оказались духовные метаморфозы менявшегося в коловращении жизни Пушкина. С момента их разлуки «страстей единый произвол», органически сочетавшийся с «безумством гибельной свободы», приводил поэта к некоему пределу, из-за которого выглядывала духовная и физическая смерть. Однако эксцессы «ренессансного» эгоизма не доходили до нигилистического завершения благодаря неиссякавшей в душе поэта нравственной силе мироутверждения, утверждения суверенности любой другой личности и настоящего единения людей.
Единство целого, восполняющего безосновность и бессмысленную односторонность индивидуалистического развития, поэт искал в истории и судьбе своего народа, включающих личность в непрерывную цепь времен и корректирующих ее сиюминутное претензии. «Гордиться славою своих предков, — писал он, — не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». Поиск твердой опоры вне субъективного сознания и «низкого эгоизма» заставлял поэта погружаться в «образ мыслей и чувствований», в «тьму обычаев, поверий и привычек», исследовать «климат, образ правления, веру», «особенную физиономию» своего народа, отражающихся в зеркале искусства. Именно знание отечественной и мировой истории, замечал Пушкин в записке «О народном воспитании», намекая на недавние события, не позволит юношам увлекаться и республиканскими идеями, сняв с них прелесть новизны.
Подобные его рассуждения не были каким-то предательством по отношению к декабристам. Как признался поэт царю в день приезда в Москву, он примкнул бы к восставшим на Сенатской площади, если бы тогда оказался среди них. Поступить иначе ему мешали его представления о товариществе и чести. Но теперь он полагал несбыточной надеждой устранить невежество, жестокость, неустройство жизни с помощью смены социально-политической системы.
Начиная с 1823–1824 годов поэт приступил к художественному исследованию неоднозначной динамики человеческих устремлений и неумолимых законов исторической необходимости. Понимание этой необходимости устраняло в его художественном видении шоры прекраснодушных мечтаний о «заре пленительного счастья», определявших пафос его первого послания 1818 года к Чаадаеву. Спустя шесть лет в другом послании к другу он мысленно пишет их имена уже не на обломках самовластья:
Чадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.
Познание «вечных противуречий существенности» составило «другие, строгие заботы» Пушкина и обусловило его «новую печаль». Печаль эта определялась пониманием неизбывности коренных конфликтов человеческого духа и, следовательно, необходимости «терпеть противуречие», «нести бремя жизни, иго нашей человечности». «Люди, — замечал он, — по большей части самолюбивы, беспонятны, легкомысленны, невежественны, упрямы; старая истина, которую все-таки не худо повторять. Они редко терпят противуречие, никогда не прощают неуважения; они легко увлекаются пышными словами, охотно, повторяют всякую новость; и, к ней привыкнув, уже не могут с нею расстаться…»
До 1823 года в его произведениях преобладали стихотворения, эпиграммы и романтические поэмы, «подчиняющие» действительность субъективному видению лирического героя. Такое видение в контексте пушкинской эволюции можно назвать «байроническим». По мере освобождения от собственного байронизма перед Пушкиным в 1823–1825 годах открывалась «даль свободного романа» и перспектива исторической драмы, где необходимо было, говоря словами Вяземского, проявлять «самоотвержение личности» и решать принципиально иные задачи целостного изображения различных столкновений «чужих» воль, страстей и интересов в полноте и противоречивости живого многообразия и неоднозначного величия прошедшей и современной жизни. В черновике предисловия к «Борису Годунову» Пушкин писал: «Являюсь, отказавшись от ранней своей манеры. Мне не приходится пестовать безвестное имя и раннюю молодость, и я уже не смею рассчитывать на снисходительность, с какой я был принят. Я уже не ищу благосклонной улыбки минутной моды. Я добровольно покидаю ее любимцев и смиренно благодарю за ту благосклонность, с какою она встречала мои опыты в течение десяти лет моей жизни».
Имманентная нравственность и глубина подлинно реалистического повествования отразилась и на природе внутренних конфликтов главных героев писателя. Еще у «романтического» Пушкина внешнее противоречие свободы и неволи уступает место внутреннему противоречию его свободы и воли окружающих людей. Уже в «Кавказском пленнике» свобода называется «гордым идолом», а к «Цыганах» выясняется, что, получив заветную свободу, человек не может ею должным образом распорядиться, вернее — способен ее использовать лишь для удовлетворения собственных прихотей и произвола. Он «для себя лишь хочет воли» и тем самым ущемляет и узурпирует волю других людей. Образ Алеко, созданный на рубеже 1823–1824 годов, очень важен для всего последующего творчества писателя. В неодинаковой степени и в разных обстоятельствах, но лишь для себя желают воли и Евгений Онегин, и Борис Годунов, и Германн, и Дон Жуан, и многие другие известные его герои. Концентрированным выражением такого желания в творчестве Пушкина выступают разные формы власти, безблагодатное и насилующее чужие права, приобретение которых отъединяет их обладателей от других людей. Перед писателем вставала проблема определения условий, и которых возможно желание воли не только для себя и в которых происходит подлинное движение людей навстречу друг другу.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Чаадаев"
Книги похожие на "Чаадаев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Тарасов - Чаадаев"
Отзывы читателей о книге "Чаадаев", комментарии и мнения людей о произведении.