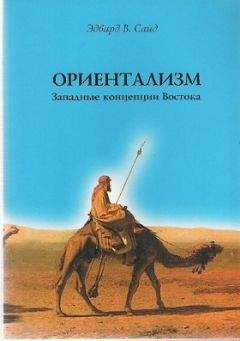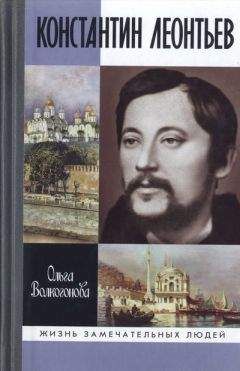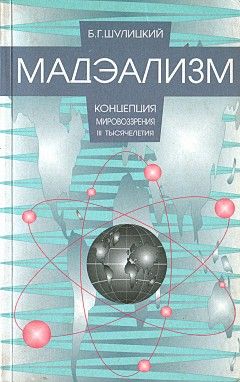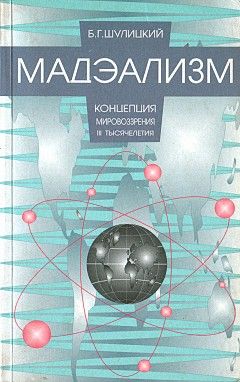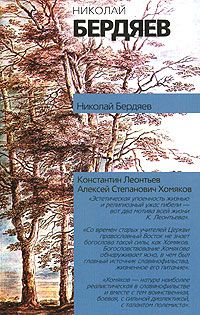Константин Леонтьев - Записки отшельника

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Записки отшельника"
Описание и краткое содержание "Записки отшельника" читать бесплатно онлайн.
Перед вами — произведение, в наибольшей мере дающее представление о философской концепции Леонтьева — мыслителя, едва ли не первым провозгласившего понятие «особого места» России как страны, тяготеющей скорее к восточной, нежели к западной культуре, полагавшего либерализм и прогресс опасными и негативными и проповедовавшего «византизм», соборность, православие и возврат к допетровскому пути развития России.
Константин Леонтьев
Записки отшельника
Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой
Было время, когда и я не любил военных. Я был тогда очень молод; но, к счастью, это длилось недолго!
Воспитанный на либерально-эстетической литературе 40-х годов (особенно на Ж. Занд, Белинском и Тургеневе), я в первой юности моей был в одно и то же время и романтик, и почти нигилист. Романтику нравилась война; нигилисту претили военные.
Я сам удивляюсь, как могли совмещаться тогда в неопытной душе моей самые несовместимые вкусы и мнения! Удивляюсь себе; но зато понимаю иногда очень хорошо и нынешних запутанных и сбитых с толку молодых людей.
И одних ли молодых только?.. Разве у нас мало и старых глупцов?
До этих людей теперь только дошло многое из того, что нас (немногих в то время) волновало, утешало и раздражало тридцать лет тому назад… Прогресс, напр. Какой именно прогресс?.. Разве я понимал в 20–25 лет ясно — какой? Прогресс, образованность, наука, равенство, свобода! Мне казалось все это тогда очень ясным; я даже, кажется, думал тогда, что все это одно и то же… Даже и революция мне нравилась; но, припоминая теперь свои тогдашние чувства, я вижу, что мне в то время нравилась только романтическая, эстетическая сторона этих революций: опасности, вооруженная борьба, сражения и «баррикады» и т. п.
О вреде или пользе революций, о последствиях их я думал в те молодые годы гораздо меньше. Почти совсем не думал.
Я, сам того не сознавая, любил и в гражданских смутах их военную, боевую сторону, а никак не штатскую цель их… Воинственные средства демократических движений нравились моему сильному воображению и заставляли меня довольно долго забывать о прозаических плодах этих опасных движений. Я оказывался в глубине души моей гораздо более военным по духу, чем мог того ожидать в то время, когда настоящих военных не любил. Я сказал: «довольно долго» воинственные средства революции заставляли меня забывать их уравнительные пошлые цели. От досады на тогдашнюю путаницу моих мыслей я сказал — «долго». Но по сравнению со многими другими людьми, пребывшими, быть может, на всю жизнь в стремлении к всеобщему мирному и деревянному преуспеянию, — я исправился скоро… Время счастливого для меня перелома этого — была смутная эпоха польского восстания; время господства ненавистного Добролюбова; пора европейских нот и блестящих ответов на них князя Горчакова. Были тут и личные, случайные, сердечные влияния, помимо гражданских и умственных. Да, я исправился скоро, хотя борьба идей в уме моем была до того сильна в 62 году, что я исхудал и почти целые петербургские зимние ночи проводил нередко без сна, положивши голову и руки на стол в изнеможении страдальческого раздумья… Я идеями не шутил и не легко мне было «сжигать то», чему меня учили поклоняться и наши, и западные писатели… Наши — путем искусного и тонкого отрицания или ложного, одностороннего освещения жизни (хотя бы и сам Гоголь — «Как все у нас скверно!»), а западные — открыто и прямо (хотя бы Ж. Занд: «Как прекрасен демократический прогресс»)… Но я хотел сжечь и сжег!.. Догорела последняя тряпка гоголевских обносков; истлела последняя ветка той фальшивой, искусственной оливы мира, которую так мило и так долго подносила мне обворожительная, но хитрая Аврора Дюдеван. Я стал находить, что Гоголь какой-то гениальный урод, который сам слишком поздно понял весь вред, приносимый его могучим комическим даром… Я стал подозревать очень зло, что Дюдеванша (у которой я прежде желал поцеловать туфлю или подол и серьезно мечтал — съездить за этим во Францию, в Берри в самый Nohant [1] …) я стал подозревать, что она бывает поочередно то сама собою, то нет; то искренна, то притворна… В Лукреции искренна; в Теверино и милых пасторалях своих искренна; в «Грехе г. Антуана» и в других социалистических романах своих притворна; ибо она слишком умна, чтобы не понимать, что уничтожение повсюду монархии, дворянства, мистических, положительных религий, войн и неравенства — привело бы к такой ужасающей прозе, что и вообразить страшно!..
Эстетика жизни (не искусства!.. Черт его возьми искусство — без жизни!..), поэзия действительности невозможна без того разнообразия — положений и чувств, которое развивается благодаря неравенству и борьбе…
Эстетика спасла во мне гражданственность… Раз я понял, что для боготворимой тогда мною поэзии жизни — необходимы почти все те общие формы и виды человеческого развития, к которым я в течение целых десяти лет моей первой молодости был равнодушен и иногда и недоброжелателен, — и что надо противодействовать их утилитарному разрушению, — для меня стало понятно, на которую сторону стать : на сторону всестороннего развития или на сторону лжеполезного разрушения.
Я стал любить монархию, полюбил войска и военных, стал и жалеть и ценить дворянство, стал восхищаться статьями Каткова и Муравьевым-Виленским; я поехал и сам на Восток с величайшей радостью — защищать даже и православие, в котором, к стыду моему, сознаюсь, я тогда ни бельмеса не понимал, а только любил его воображением и сердцем.
Государство, монархию, «воинов» я понял раньше и оценил скорее; церковь, православие, «жрецов» так сказать постиг и полюбил позднее; но все-таки постиг; и они-то, эти благодетели мои, открыли мне простую и великую вещь, — что каждый может уверовать, если будет искренно, смиренно и пламенно жаждать веры и просить у Бога о ниспослании ее. И я молился и уверовал. Уверовал слабо, недостойно, но искренно.
С той поры я думаю, я верю, что благо тому государству, где преобладают эти «жрецы и воины» (епископы, духовные старцы и генералы меча), и горе тому обществу, в котором первенствуют «софист и ритор» (профессор и адвокат)… Первые придают форму жизни; они способствуют ее охранению; они не допускают до расторжения во все стороны общественный материал; вторые по существу своего призвания наклонны способствовать этой гибели, этому плачевному всерасторжению…
С той поры я готов чтить и любить так называемую «науку» только тогда, когда она свободно и охотно служит не сама себе только и не демократии, а религии, как служит самоотверженная и честная служанка царице; как служит, например, и в наше время эта благородно порабощенная вере наука у епископа Никанора в его книге «Позитивная философия» или у Владимира Соловьева в его «Критике отвлеченных начал», как служила она у Хомякова, хотя бы и несколько своевольному, но все-таки в основе глубоко православному чувству. Я уважаю науку тогда, когда она посредством некоторого самоотрицания, посредством частых сомнений в собственной пользе и полезной силе, приготовляет просвещенный ум человека к принятию положительных верований; то есть таких верований, при которых духовные, таинственные (мистические) начала не могут выразиться в одной отвлеченной и скучной какой-то морали, но ищут воплотить себя даже и в вещественных явлениях внешнего богопочитания. Пожалуй, я скажу, если хотите, в том самом «ханжестве», которого почему-то так боится г. Ф. Г-в, недавно негодовавший в «Московских ведомостях» на «обскурантизм» «Гражданина».
И что такое, в самом деле, это «ханжество»? Всякий, я надеюсь, знает, что «ханжество» и «лицемерие» не одно и то же. «Ханжество», как слово порицательное, значит (в устах людей, употребляющих его) излишняя, до мелочности доведенная преданность всей совокупности внешнего церковного культа, а совсем не притворство. Поклонение иконам и мощам, частое хождение в храмы, молитвы «по правилу», а не по одному порыву, исповедь и причащение; уважение к монашеству, даже и к слабому (какое есть — что делать!) и т. д. Да ведь это-то и есть Православие и больше ничего; один верующий может больше проникнуться любовью к таинственным, духовным началам христианства и чувствовать потребность чаще вступать с ними в общение посредством вещественной, воплощенной, так сказать, святыни; другой — поменьше; третий — изредка; четвертый — не только сам влечется к этому всему, но и проповедует все это другим; положим, хоть так, как делал покойный Аскоченский. Я «Домашней беседы» никогда не читал, но если Аскоченский предпочел христианскую набожность общеевропейской учености, то это делает ему великую честь, и тут нет никакого «обскурантизма» (как это старо и глупо — «обскурантизм»!), а напротив того, просветление русского ума, свергнувшего с себя вериги чужого рационализма… Не знаю наверное, кто это писал под этими буквами: Фита и Глагол.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Записки отшельника"
Книги похожие на "Записки отшельника" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Константин Леонтьев - Записки отшельника"
Отзывы читателей о книге "Записки отшельника", комментарии и мнения людей о произведении.