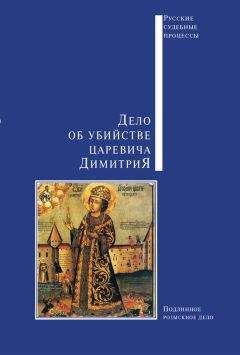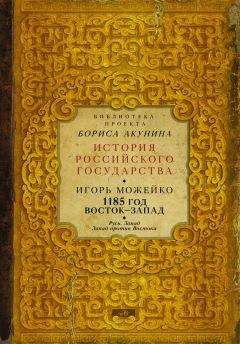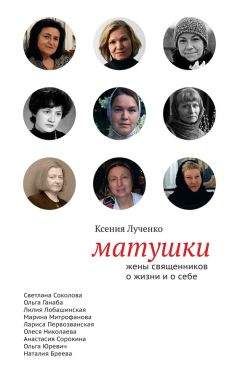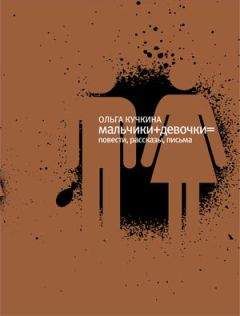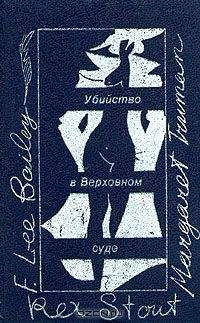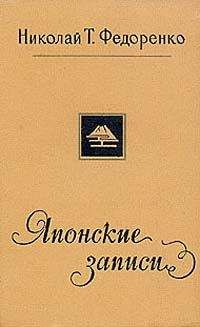Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина"
Описание и краткое содержание "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина" читать бесплатно онлайн.
В книге Ст. Рассадина — долгая, полная драматических событий жизнь. В этой жизни — и мучительное дело по обвинению в убийстве. Семь лет находился A. B. Сухово-Кобылин под следствием и судом, дважды подвергался тюремному заключению — светская молва приписывала ему это преступление. Дело надломило жизнь драматурга, непосредственно отразилось на его творчестве, перелилось в него. Биография писателя как бы сама по себе стала художественным произведением, и Ст. Рассадин это хорошо почувствовал. Перед нами не житейская биография, а жизнь, преобразующаяся в творчество.
Для широкого круга читателей.
— Как же я буду невинного человека в каторгу законопачивать?
Придавил пуговку. Позвонил.
На пороге вестовой появился. Мужчина — в карман меня спрячет.
— Подержи-ка, — говорит, — мне эту музыку!
«Музыку» взяли на плечи.
Пристав встал.
— Ваше высокоблагородие! Стойте! Стойте! Согласен!
— То-то. Сидоренко, выйди. Через пять минут ко мне письмоводителя пришли. Пусть свидетельское показание запишет!
И рассказал мне все, что я «видел и знаю по этому делу».
— И вы?
— Показал!
Он сказал это тихим, упавшим голосом и добавил со скривленной улыбкой:
— Какая же флейта без перепонки?.. Жене я, пришел, все рассказал. Плакала жена о родственнике. Но меня поняла.
— Ну, а на суде?
— Суда я, сами понимаете, не дождался. Как я стал бы родственнику в глаза смотреть? Под присягой человека в могилу закапывать? Или отказаться от показания? Разве у них мало предлогов. Вызовут в участок, и с глаза на глаз… Раз там перепонки рвут, — продал все за бесценок, сюда бежал»…
Надо ли, можно ли задавать здесь все тот же назойливый вопрос: жаль? Не жаль? Он и сам по себе прозвучит оскорбительно-глумливо: какой же нужно быть скотиной, чтобы не почувствовать страдание человека — не ударенного, но раздавленного?
И жаль — до боли — не только лишь потому, что мы верим: это было. В повести или в романе при ясном сознании вымышленности такого события оно тоже било бы по сердцу и по нервам, потому что если и не было, то — бывало. Хотя бы могло быть.
В блистательной пантомиме на тему: «Качала режет Шаталу — Шатала Пахомова…» — физическая мука дворника, изображенная на сцене не то что грубо-натуралистически, но хотя бы просто реально, чувственно, больно, немедля обернулась бы патологией. Нонсенсом — эстетическим, а отчасти и нравственным. Как (затертое сравнение) живой нос, просунутый сквозь нарисованное на холсте лицо. Как мордобой в балете. Как настоящая кровь, пролитая в балагане вместо положенного клюквенного сока или, допустим, красной краски.
В балагане и должен быть сок, а не кровь. Подделка, а не натура. Всему свое место — вот истина, от повторения не переставшая быть истиной. Фарс есть фарс, пантомима есть пантомима, и мы смело называем ее «блистательной», что выглядело бы кощунственно в применении к реальным или хотя бы реально изображенным боли и крови.
Это первое. Есть и второе. (А будет и третье.)
«Плебейская непочтительность фарса, — хорошо заметил Константин Рудницкий, — которая так привлекала Мольера, оказалась необходима дворянину, «барину» Сухово-Кобылину, когда он решился выступить с сатирой против полиции… Сухово-Кобылин в этой пьесе неожиданно, быть может, для самого себя отразил простонародное, грубое и совершенно верное понимание того, что творится в полицейских застенках».
Верное… Грубое… Простонародное…
Верное — да, и если бы мы не знали со всей твердостью, что это именно так, одного лишь сопоставления с бедным флейтистом-предателем хватило бы, чтоб убедить нас в этом.
Грубое — о да; нарочито, весело, балаганно грубое, ибо это все-таки не балет, не карнавал, не водевиль, а цирковая клоунада, которая в те времена как раз и бывала нецеремонно жестокой, с пинками, пощечинами, колотушками.
В «Деле» Сухово-Кобылин уже машисто шагнул к этой эстетике — без полутонов, без полунамеков, не говорящей вполголоса или хоть в полный голос, но кричащей, орущей. След этого шага, к примеру, такая ремарка:
«В эту минуту двери кабинета размахиваются настежь; показывается князь… по канцелярии пробегает дуновение бури; вся масса чиновников снимается с своих мест и, по мере движения князя через залу, волнообразно преклоняется. Максим Кузьмич мелкими шагами спешит сзади и несколько бочит так, что косиною своего хода изображает повиновение, а быстротою ног — преданность. У выхода он кланяется князю прямо в спину, затворяет за ним двери и снова принимает осанку и шаг начальника».
Прекрасно! Но — совсем иное, нежели в «Смерти Тарелкина».
Это, в общем, не менее, однако и не более того, чем нечаянная реализация метафоры, которую — тремя месяцами раньше окончания «комедии-шутки» — с расчетливой дерзостью позволит себе персонаж Островского Егор Дмитрич Глумов в беседе с либералом Городулиным:
— Когда начальник пошлет за чем-нибудь, надо уметь производить легкое порханье, среднее между галопом, марш-марш и обыкновенным шагом.
Мало того, что здесь, в «Деле», еще как бы балетная, танцевальная — пусть тысячу раз ироническая — пластика. (Тогда, правда, так покуда не танцевали ни у Дидло, ни даже у Петипа, но уж теперь-то подобное не только возможно, но далеко не единожды осуществлено, — взять хотя бы балеты «Подпоручик Киже», «Анюта» или «косину хода» Каренина в хореографическом варианте толстовского романа.) Словом, мало того. «Марш-марш» и «галоп» генерала Варравина к тому же достаточно правдоподобен. Он в границах или, точнее, на самой границе правдоподобия. Танец преданности и повиновения, мастерски им исполненный, это уже гротеск, но еще и бытовая реальность, этакое балансе между ними.
Когда же «Качала режет Шаталу», — тут полный разрыв с правдоподобием. Почти крайняя степень условности — крайняя, но и простая, четкая, ясная, а оттого принимаемая безусловно. Как шутовской, несколько даже тарабарский, но понятный язык. Как — повторю — понимают и принимают цирк. Как принимали существовавший в те годы простонародный ярмарочный балаган.
В слове, которое я подчеркнул вслед за Константином Рудницким, тоже объяснение, почему избиваемый дворник Пахомов воспринимается без сентиментов. Писатель-интеллигент непременно бы пожалел «бедного человека» и был бы прав, — но прав и народ, к которому так естественно и охотно пошел на выучку «барин» Сухово-Кобылин. Фарсовая насмешливость балагана или петрушечного театра тотальна, и сумеем ли мы припомнить или вообразить случай, чтобы в нем, в знаменитом былом балагане, опасно и дерзко потешаясь над околоточным или попом, трогательно вздыхали бы над униженной участью себе подобных?
Это, как было обещано, второе. Теперь о третьем.
«Ох…Дворника под арест.
Пахомов (на коленях). Ваше высокородие, — не погубите!..
Ох. Ни, ни. Нельзя, любезный.
Пахомов. Помилуйте, сударь, кто же будет улицу месть?
Ох. А у тебя есть жена?
Пахомов. Как жены не быть: жена есть.
Ох. Ну жена и выметет.
Пахомов. Где ж ей месть, — она не выметет.
Ох. А городовой придет, — да палку возьмет, вот она и выметет.
Пахомов. Ну разве городовой палку возьмет».
Прямой повтор. Вновь испытанный прием из арсенала старого доброго — а вернее, как раз злого — фарса. Но сейчас речь не о том.
— Князь Мещерский писал:
«Есть нечто на Руси в виде бесспорной истины, сознаваемой народом. Это сознание нужды розог… Куда ни пойдешь, везде в народе один вопль: секите, секите, а в ответ на это власть имущие в России говорят: все, кроме розог. И в результате этого противоречия: страшная распущенность, разрушение авторитета отца в семье, пьянство, преступления и т. д.»
И это не дикий голос беглого сумасшедшего, которого по всему городу разыскивают служители желтого дома, а глас одного из идейных столпов эпохи Александра III, такого, чье мракобесие доходило до оппозиционности.
Гимна розгам народ не пел. О необходимости их отнюдь не вопил, — вот под ними, под розгами, поротые покрикивали-таки, случалось; и нередко. Но то спокойное удовлетворение, — точь-в-точь как у Людмилы Спиридоновой, — с каким Пахомов, сам только что битый, принимает известие, что за нерадивость или за неумение жене крепко достанется от городового, его врожденная убежденность, что палкой очень возможно исправлять нравы и даже учить ремеслу, его покорность, его готовность сносить этакий порядок — все это, увы, не злая выдумка сочинителя. И подобное состояние, которое прививало и не могло не привить рабство, Сухово-Кобылину было явственно видно и до презрительности ненавистно.
Превосходно высказался Анатолий Горелов, автор немногостраничной работы о нем:
«Наперекор гоголевской традиции, Сухово-Кобылин не жалеет «маленького человека», ибо полагает, что в змеином обществе маленький человек отлично оскотинится и станет преопаснейшей общественной чумой.
…Для Сухово-Кобылина нет проблемы «маленького человека» в его социальной подавленности, в его «униженности и оскорбленности».
…Судьбу «маленького человека» драматург рассматривает без иллюзий: Гоголя он любил, но из его «Шинели» выпрастывался твердо и с саркастической улыбкой. «Маленький человек» для него если еще не каналья, то всегда к этому готов».
Одним словом, этот почитатель, а в чем-то, без сомнения, и продолжатель Гоголя в иных и весьма немаловажных отношениях есть, так сказать, антигоголь. И, уж конечно, антидостоевский.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина"
Книги похожие на "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина"
Отзывы читателей о книге "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина", комментарии и мнения людей о произведении.