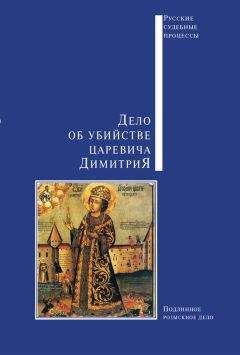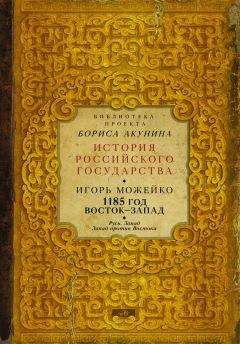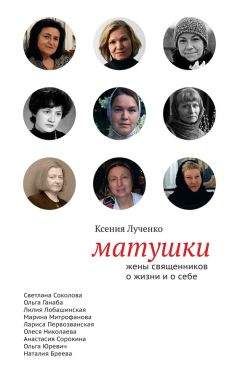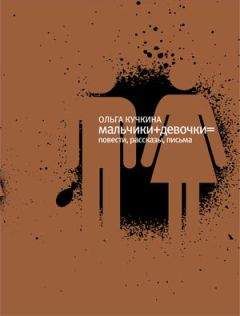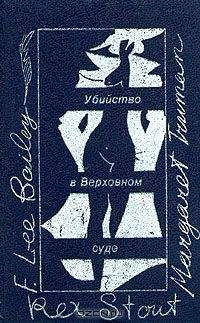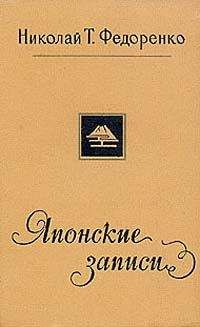Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина"
Описание и краткое содержание "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина" читать бесплатно онлайн.
В книге Ст. Рассадина — долгая, полная драматических событий жизнь. В этой жизни — и мучительное дело по обвинению в убийстве. Семь лет находился A. B. Сухово-Кобылин под следствием и судом, дважды подвергался тюремному заключению — светская молва приписывала ему это преступление. Дело надломило жизнь драматурга, непосредственно отразилось на его творчестве, перелилось в него. Биография писателя как бы сама по себе стала художественным произведением, и Ст. Рассадин это хорошо почувствовал. Перед нами не житейская биография, а жизнь, преобразующаяся в творчество.
Для широкого круга читателей.
Поэты говорят обиняками, и, вероятно, потому они способны вдруг, будто нечаянно, изловить то, что не дастся самой мощной мысли, прямо идущей на бесстрашный приступ. А уж потом — наша воля и, может быть, право разглядеть в этом удивительном способе уловления истины личный и даже исторический опыт, который неприметно, неявно принудил поэта избрать именно этот способ, пройти именно этим путем.
В «Недоноске» — голос человека, выпавшего из своего времени, ненужного, лишнего; время идет без него, и сам он живет словно бы вне времени.
Чтобы заполучить это болезненное самоощущение, Баратынскому надо было заиметь такую, как у него, судьбу. Ровесник и друг декабристов, он еще в пору всеобщих иллюзий и упований, — всеобщих, то есть тогда, когда они были своего рода нормой, — стал, по сути, человеком последекабристской эпохи. Стал им, не переменившись естественным образом (как Пушкин), а надломившись. И надлом произошел в ранней юности, чуть не в детстве.
Шестнадцати лет от роду он был выгнан из привилегированного Пажеского корпуса — и не только выгнан, но лишен права поступить в какую-либо службу. Разве что в военную, и не иначе как рядовым.
Причина, надо признать, была такой, что нам, понаторевшим в сглаживании шероховатостей жизни гениев, неловко ее и назвать вслух. Но назовем: увы, воровство.
Правда, можно смягчающе оговориться — и не из стыдливости, а ради истины. Не только возраст преступника был полудетским, но и сама проделка носила откровенно мальчишеский характер. Как позднейшие школяры станут играть в индейцев и пиратов, так юный Баратынский состоял членом тайной корпусной организации под роскошным названием «Общество мстителей» (кому и за что собирались мстить, разумеется, было непонятно даже им самим). В число ужасных заговорщиков входили не только сорвиголовы из будущих пажей, но и просто мальчики с воображением, а деньги, каковые по общему приговору надлежало похитить у родственника одного из «мстителей», предназначались для оргии, заключавшейся в поедании конфет.
Добавлю, что есть притом основания считать: Баратынский, слывший тихоней, не мог быть зачинщиком, каким начальство поспешило его изобразить; став похитителем по жребию и будучи пойман, он взял на себя главную часть вины, дабы не выдать товарищей.
Смягчающие обстоятельства охотно были учтены многими: родственники торопились обласкать мальчика, считая наказание искуплением, да и, кажется, никто из будущих армейских товарищей и покровителей Баратынского не попрекал его прошлым, помимо прочего отлично понимая жестокие законы корпусного общежития, — в этом смысле Пажеский не столь уж был далек от обычного военного корпуса, взять хоть и более поздний, тот, что изображен в «Кадетах» Куприным.
Не счел нужным принять все это к сведению только Александр I. По его высочайшему, личному распоряжению Баратынский и был исключен с волчьим билетом.
Странно, впрочем, не это. Сословное общество имело свои резоны, самым ревностным образом блюдя чистоту главенствующего сословия; бесчестный поступок, пусть совершенный по мальчишескому неразумию, в любом случае таковым и оставался, а Пажеский корпус, фасонная деталь фасада дворянской империи, обязан был выглядеть безупречным.
Поражает иное: упорство, с каким первый дворянин государства в течение нескольких лет отвергал просьбы сперва рядового, потом унтер-офицера Баратынского, тянувшего в Финляндии лямку, необременительную физически, но мучительную нравственно. Монарх находил возможным среди государственных дел уделять постоянное и неблагосклонное внимание маленькому армейскому унтеру.
Общество, считавшее необходимостью карать любую, даже ребяческую проделку, могло самодовольно видеть в этом источник своего могущества и своей монолитности, — но тем самым оно лишь обнажало свою неявную слабость. Кара превращалась в бессмысленную жестокость и утрачивала исправительную функцию; в таком виде она оказывалась способной только множить число недовольных.
Юный Баратынский отнюдь не собирался отказаться от традиционной карьеры дворянского юноши, — иначе зачем было поступать в Пажеский? «Никогда не служил» — нет, такого девиза его молодость не признавала. Возможно и даже наверное, что и в солдаты он добровольно пошел, чтобы выровнять свою дорогу, на глади которой так неудачно споткнулся. Но едва только выслужил первый офицерский чин, как тотчас вышел из службы и никогда уже более в нее не вступал.
Теперь у него было не только «частное» прощение окружающих, быстро забывших его грех, но и как бы прощение официальное, дозволившее ему вернуться в среду благородных чинов, в охраняемый мир табели о рангах. Комплекс, так сказать, государственной неполноценности был, казалось, излечен, как было удовлетворено и чувство личного достоинства: ведь это он сам принял решение бросить службу, никем в мире, кроме себя самого, не понукаемый.
Но надрыв не зажил, с годами став даже больнее и глубже. Столкновение с мстительностью государства так и не прошло даром…
Разумеется, такова была только личная, биографическая причина, приведшая поэта Баратынского к разочарованию в государственности и «общественности», но у нас и речь не о нем, не о его поэзии, так что нам достанет причины первоначальной. Важно следующее: то, что он сделал, повинуясь индивидуальным особенностям своей неповторимой судьбы, сделал одним из первых, как бы преждевременно, с опережением став живым воплощением типа, который получит название «лишнего человека», многие после него — и среди них Александр Сухово-Кобылин с юношеским своим обетом — осознают и совершат уже без видимых причин. Без непосредственно личного, тем более столь драматического, как у Баратынского, повода, порою находясь посреди полнейшего — внешне — благополучия.
Это перестанет казаться странностью и не будет восприниматься новоявленными «лишними» мучительно. Герцен напишет о немалом числе лиц, которые если «и просят о чем-либо правительство, то разве только оставить их в покое… Не домогаться ничего, беречь свою независимость, не искать места — все это при деспотическом режиме называется быть в оппозиции. Правительство косилось на этих праздных людей и было ими недовольно».
При самодержавном правлении оппозиционным кажется — да и является — не только политический протестантизм, но и аполитичность. Не только изъявления неудовольствия, но и неизъявления удовольствия.
Империя Николая, по своему политическому строению еще отчетливо феодальная, предполагала неукоснительное исполнение сословного и государственного долга. Крестьянин работал на барщине и платил оброк, дворянин служил, поэт, коли уж он печатался с дозволения цензуры, также считался внутренней частью общего механизма. Всякое уклонение от прямых официальных обязанностей рассматривалось как протест, вольный или невольный; феодальное государство требовало круговой поруки, монолитности, хотя бы и неискренней, показной. Личная инициатива — пусть со знаком минус, ограничивающаяся желанием выйти, выбыть, выключиться, — нарушала монолитность, как всякое неповиновение.
Появление в среде дворянства «праздных людей», их умножение означало ни много ни мало то, что государству пора думать о перемене пути.
Правда, на первый взгляд даже лучшие люди из дворян чуть не старались вопреки всему поворотить к старине. Удержать прошлое, вернее сказать, проходящее.
…В ту самую пору, о которой речь, у Александра Сергеевича Пушкина состоялся спор с великим князем Михаилом Павловичем, — они встретились «у Хитровой», то бишь у Елизаветы Михайловны Хитрово.
В пушкинском дневнике сохранилась запись от 22 декабря 1834 года:
«Потом разговорились о дворянстве. Великий князь был противу постановления о почетном гражданстве…»
Осмелюсь на полуфразе прервать эту запись для пояснения и для вопроса. Пояснение: в 1832 году в России было учреждено звание потомственного почетного гражданина — для особенно заслуженных лиц купеческого и иных низших сословий; оно должно было открывать людям образованным и богатым выход в сословие, свободное от телесных наказаний, от рекрутчины и подушной подати. И вопрос: почему же великий князь «противу» этой демократической уступки? По-видимому, она раздражает его аристократический гонор?
Ничего подобного. Наоборот. Михаил Павлович считает, что уступка недостаточна:
«…Зачем преграждать заслугам высшую цель честолюбия? Зачем составлять tiers-etat, сию вечную стихию мятежей и оппозиции?»
Что же отвечал государеву брату Пушкин?
«Я заметил, что или дворянство не нужно в государстве, или должно быть ограждено и недоступно иначе, как по собственной воле государя. Если в дворянство можно будет поступать из других состояний, как из чина в чин, не по исключительной воле государя, а по порядку службы, то вскоре дворянство не будет существовать или (что все равно) все будет дворянством. Что касается до tiers-etat, что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристокрации и со всеми притязаниями на власть и богатство? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина"
Книги похожие на "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина"
Отзывы читателей о книге "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина", комментарии и мнения людей о произведении.