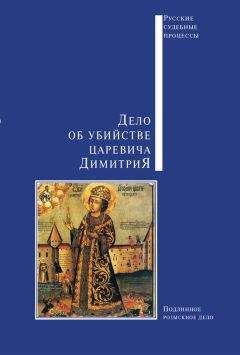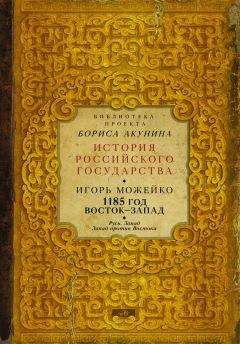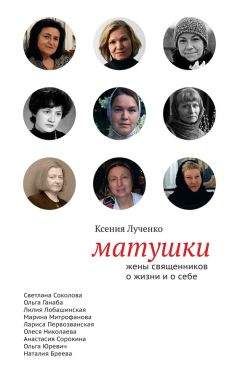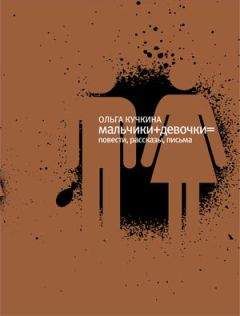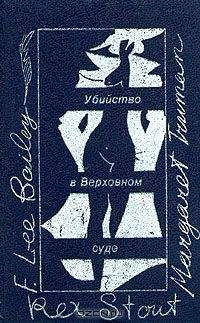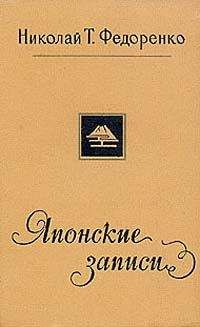Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина"
Описание и краткое содержание "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина" читать бесплатно онлайн.
В книге Ст. Рассадина — долгая, полная драматических событий жизнь. В этой жизни — и мучительное дело по обвинению в убийстве. Семь лет находился A. B. Сухово-Кобылин под следствием и судом, дважды подвергался тюремному заключению — светская молва приписывала ему это преступление. Дело надломило жизнь драматурга, непосредственно отразилось на его творчестве, перелилось в него. Биография писателя как бы сама по себе стала художественным произведением, и Ст. Рассадин это хорошо почувствовал. Перед нами не житейская биография, а жизнь, преобразующаяся в творчество.
Для широкого круга читателей.
Дом подточен изнутри, и в такой дом, где у дверей такой Тишка, должен войти, не может не войти некий ловец растерянных простаков. Похититель и расхититель.
Он и входит.
Его первое (в пьесе, не в доме) появление и первое (в ней же) дело изящно-парадоксальны и многозначительны.
Надо сказать, завязка «Свадьбы Кречинского» вообще являет ту профессиональную драматургическую хватку, которая для едва начавшего сочинителя кажется невесть откуда взявшейся, — Сухово-Кобылин вошел, вшагнул в литературу уже зрелым, даже изощренным мастером, оставив где-то в неразличимой для нас тьме собственных «Ганца Кюхельгартена» и «Мечты и звуки». Михаил Семенович Щепкин, его Муромский из Малого театра, даже было посожалел, что Александр Васильевич начал настолько хорошо, — вероятно, имелось в виду, будто отныне от него примутся ждать бог знает чего; страшно, мол, не оправдать ожиданий.
Первые восемь явлений с вызывающей смелостью держатся на пересудах и недоразумениях вокруг сущего, водевильного пустяка: комнатного колокольчика, призванного оповещать о появлении гостя, — Тишка спьяну никак не может прибить его куда следует, Атуева в нем, в колокольчике, отстаивает свое право на бонтон и понимание бонтона, а Муромский раздражен его громогласностью, от которой покою нет. Мы, стало быть, уже не оставлены в неведении, что за порядок в доме, и видим, предчувствуем неминуемость появления в нем кого-то вроде Кречинского.
Сперва, однако, является провинциал Нелькин, также не избежавший общей участи вынести колокольчику свой приговор, который угождает Муромскому и сердит Атуеву.
Покуда все стройно, но бесхитростно-прямолинейно. Завязка, завязываясь, все никак не завяжется, — недостает сильной сторонней руки, способной накинуть петлю и затянуть узел.
Кречинский появляется, оправдывая и обманывая ожидания. По прямой водевильной логике, которой до сих пор и жила комедия, озаглавленная его именем, этот фат и искатель приданого, каким — впрямую и от противного — уже представила его нам перебранка Муромского и Атуевой, неминуемо должен быть втянут в затянувшийся спор о колокольчике и либо польстить своей стороннице Атуевой, либо подлизаться к мнению Муромского. Кречинский не делает ни того ни другого, — он солидно являет серьезную осведомленность эксперта, он беспристрастен и объективен, ему не к лицу завоевывать чью-либо благосклонность с помощью лжи:
«Кречинский (идет к колокольчику, все идут за ним и смотрят). Да велик, точно велик… А! да он с пружинкой, a marteau[7]… знаю, знаю!..
Атуева (утвердительно). Это мне немец делал.
Кречинский. Да, да, он прекрасный колокольчик; только его надо вниз, на лестницу… его надо вниз.
Муромский. Ну вот оно! как гора с плеч… (Отворяет дверь на лестницу). Эй, ты, Тишка! епанча! пономарь пустой колокольни! поди сюда!..
(Является Тишка.)
Поди сюда! сымай его, разбойника!
(Тишка снимает колокольчик и уносит)».
И все?
Да, все. Свершилось нечто, вызвав бурную детскую радость старика Муромского, который чувствует себя в городе неуверенно и беззащитно, и колокольчик больше не нужен ни автору, ни Кречинскому. Он свое отзвонил, — разве что брякнет еще разок в сцене, где Михайло Васильевич станет подсчитывать свои дивиденды в глазах Лидочкина отца, не позабывши и подаренного ему бычка — будто бы из симбирского родового имения:
— Теперь за меня: вот этот вечевой колокол — раз; Лидочка — два и… да! мой бычок — три. О, бычок — штука важная: он произвел отличное моральное действие.
Дело не в том, что Сухово-Кобылин свернул с накатанной водевильной дорожки, — невелика заслуга. Нет, тут тонкость: победа и торжество Муромского над Атуевой есть победа и торжество Кречинского над Муромским.
Узел завязался, петля затянулась, и если б не добродетельный Нелькин, положивший душу на то, чтобы разоблачить Кречинского, если б не это олицетворение авторской воли и авторского желания справедливости, то…
Однако в самом ли деле — авторской? Точно ли — авторского?
Тут вновь — тонкость и сложность.
Судьба в комедии Владимира Дмитрича Нелькина («помещик, близкий сосед Муромских, молодой человек, служивший в военной службе. Носит усы») — судьба всякого резонера, воплощенной положительности, никогда не дававшейся, да так и не давшейся ни одному комедиографу. Не свершил невозможного и Сухово-Кобылин; к его художнической чести можно сказать только то, что он и Нелькина не побоялся чуть-чуть тронуть иронией, то есть глянуть на него каким-никаким, а все же живым, оценивающим глазом, — впрочем, не более чем именно чуть-чуть.
Третий лишний между Лидочкой и Кречинским, Нелькин не «лишний человек» в понимании русской критики, всерьез, вплоть до сочувствия, а то и духовной причастности, занимавший Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гончарова, Чехова (хотя последнего уже не всегда всерьез, но иронически, ибо тот у него — да и в действительности — успел выродиться в Гаева). Натуре Александра Васильевича «лишние» были попросту неинтересны. И когда Нелькина сравнивают — что случалось — с Чацким, имея в виду склонность к благородным репликам, то это натужно-насильственное сравнение способно разве что оттенить его шероховатую нескладность изящной фигурой грибоедовского умницы и острослова. Коли хотите, да, это крохотный провинциальный Чацкий, вернее сказать, Получацкий, Четвертьчацкий, — тоже незадачливый любовник, тоже (ко времени драмы «Дело») повояжировавший за границей, но угрюмый, нелюдимый, неуклюжий.
— Вы бы его в свете посмотрели… Ведь это просто срамота! Вот вчера выхлопотала ему приглашение у княгини — стащила на бал. Приехал. Что ж, вы думаете? Залез в угол, да и торчит там, выглядывает оттуда, как зверь какой: никого не знает.
Чем не шаржированно-сниженный вариант драматического отчуждения Чацкого на фамусовском балу?
Всяко случалось, и иной раз эта роль, давно уже ставшая проклятием для актеров, имела-таки успех. Вспоминает Владимир Николаевич Давыдов, замечательный Муромский и гениальный Расплюев Александринского театра, а в молодости:
— Я играл тогда Нелькина, и фразу мою: «Правда, правда, где твоя сила?» — публика постоянно встречала градом аплодисментов.
Пристрастие зрителей к броским аллюзиям неискоренимо, и, допустим, точно так же в Малом театре, на премьере «Отжитого времени» («Дела»), Самарина, выступавшего в роли Муромского, вызывали, прервав действие овацией, после слов: «Разбой… здесь… грабят!.. Я вслух говорю — грабят!!!» И вызывали — ни много ни мало — шесть раз.
И все-таки аплодисменты Нелькину сегодня так же трудно представить, как и то, что 24 сентября 1782 года в Деревянном санкт-петербургском театре на Царицыном лугу, на первом спектакле «Недоросля», когда публика «аплодировала пиесу метанием кошельков», наибольший энтузиазм пробудил Дмитревский, игравший фонвизинского резонера Стародума: именно ему кинули кошелек с золотом, именно он, «подняв его, говорил речь к зрителям…».
Сегодня же (хотя кто знает: может, и прежде?) — и, по-видимому, на сей уж раз без участия сухово-кобылинской иронии (снова запнусь: кто твердо знает и это?) — пристрастие Нелькина к словесам, как бы они ни были правильны и благородны, раздражает. И не по той даже причине, по какой в их искренности сомневается Атуева: «Все это французские романы да слова».
— Вы посмотрите, разве мало честных людей страдает? Разве мало их гниет по острогам, изнывает по судам? Разве все они должны кланяться силе, лизать ноги у насилия? Неужели внутри нас нет столько честности, чтобы с гордостью одеться в лохмотья внешней чести, которую располосовал в куски этот старый шут — закон, расшитый по швам, разряженный в ленты и повесивший себе на шею иудин кошель!..
Кто усомнится в том, что эти слова из драмы «Дело» — и эти больше, чем какие-нибудь иные, — прямо, без особых потуг к перевоплощению внушены резонеру самим Сухово-Кобылиным, к тому времени на своей судьбе испытавшим, каково гримасничает «старый шут»? Тут и сама велеречивость, возможно, смешноватая на сегодняшний слух, клеймена собственно кобылинским клеймом, она та, что встречается в его дневниках и письмах.
Но и можно ли не соотнести громкоголосие этой проповеди или отповеди с фатальным бессилием, которое неуклонно демонстрирует благородный трибун Нелькин? Кажется, все, на что он способен в тяжкую минуту, это подать Лидочке гофманские капли, — только их, а не тот разумный совет, для которого его и позвали в дом Муромских; совет-то как раз даст Кречинский, что мы, уже прочитавши его письмо, запомнили и что со временем еще особо оценим.
Когда наступит острая, крайняя, смертельная нужда в деньгах, дабы — именно по совету Кречинского — откупиться от беды и позора, даже и тогда:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина"
Книги похожие на "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина"
Отзывы читателей о книге "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина", комментарии и мнения людей о произведении.