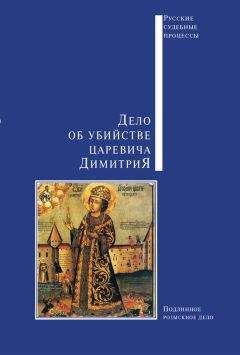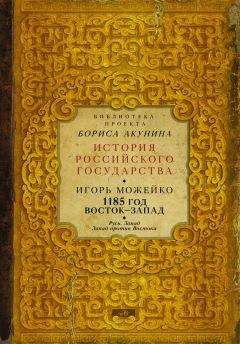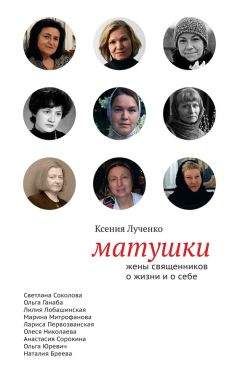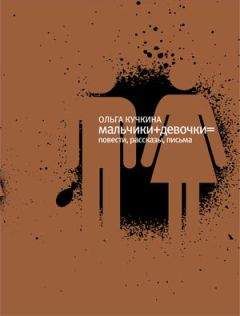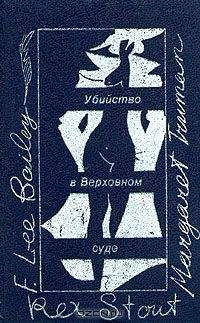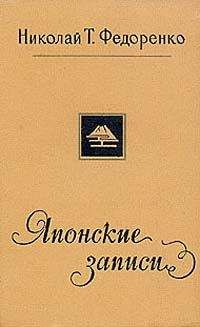Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина"
Описание и краткое содержание "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина" читать бесплатно онлайн.
В книге Ст. Рассадина — долгая, полная драматических событий жизнь. В этой жизни — и мучительное дело по обвинению в убийстве. Семь лет находился A. B. Сухово-Кобылин под следствием и судом, дважды подвергался тюремному заключению — светская молва приписывала ему это преступление. Дело надломило жизнь драматурга, непосредственно отразилось на его творчестве, перелилось в него. Биография писателя как бы сама по себе стала художественным произведением, и Ст. Рассадин это хорошо почувствовал. Перед нами не житейская биография, а жизнь, преобразующаяся в творчество.
Для широкого круга читателей.
Когда Огарев, отбыв ссылку, куда пошел одновременно с Герценом, в 1839 году вернулся в Москву, четыре года разницы перестали почтительно осознаваться, дружба к нему Александра утратила свой подчиненный оттенок, но сохранилась. И уж на нее-то взаимная любовь Ника и Душеньки не повлияла, — сословной спеси здесь не от чего было встопорщиваться: Огарев был хорошего роду, а после смерти отца, приключившейся в 1838-м, оказался еще и несметно богат.
То, что взаимная любовь была и на этот раз, увы, несчастливой, имело совсем другую причину: жену, которую Николай Платонович, человек редкой кротости, но и безалаберности, неосторожно заполучил в ссылке[5].
Огарев мучился и маялся. Все собирался добиться развода, и Душенька доверчиво ждала, но постылая жена, Марья Львовна, то успешно интриговала, то еще успешнее взывала к доброму сердцу мужа, также нелюбимого, — так или иначе, годы шли, и сама огаревская любовь, которую он, доживая, назовет самым сильным чувством в своей жизни, кажется, превращалась уже не в то, чего неотложно жаждешь и без чего тебе не житье, а в мечту, которая, как всякая мечта, особо маняща и хороша в невоплощенности. Превращалась в предмет поэтического вдохновения и в повод для фантазий, «миражей».
Как пусто, страшно в полуночный час…
О! если б знали вы — в минуты эти
Как я страдаю, думая о вас!
Как чувствую, что я один на свете!
Так чувствовалось и страдалось в Италии, где Огарев, путешествуя, вспоминал о далекой, как неосязаемая звезда, Душеньке и сочинял «Книгу любви», «Buch der Liebe», вероятно, в подражание Гейне озаглавленную по-немецки.
И в этих отдаленно-отвлеченных (а если признаться, то и довольно скверных со стороны поэзии) воспоминаниях реальная картина странным — впрочем, и весьма знакомым для нас образом — смещалась и переиначивалась:
А если бы меня любили вы —
Что мне тогда условий светских цепи,
Людей насмешки, глупый суд молвы,
Гнилой закон, что с каждым днем нелепей!
С собой я вас в мои увлек бы степи,
Которым, кроме неба синевы,
Иных границ еще не положили,
И беспредельно мы бы там любили.
В самом деле — как знакомо! Это опять она виновата, ибо не любит его, а будь иначе, никакие «цепи» (читай: брачные), никакой «гнилой закон» (читай: церковный и гражданский) не помешали бы их беспредельному счастью.
Но цепи рвать он не торопился, к милости закона не взывал, — одно утешение: по доброте и по жалостливости терпел даже скандалы и измены жены — а Душенька, судя по всему, его любила. И ждала — сообразим: она, признанная московская красавица, вышла замуж (слава богу, счастливо) только двадцати девяти лет от роду. По тем временам возраст безнадежного перестарка.
Правда, и Огарев сошелся со своей новой женой Натальей Алексеевной Тучковой лишь через год после замужества Душеньки, в 1849-м. А до того — опять-таки по доброте, по неумению противостоять напору, вновь не любя, — надолго попал в плен к ее сестре Елизавете…
Надеждина Александр Сухово-Кобылин презирал, Ника Огарева любил. Но совсем нетрудно представить, что мужчины, взваливающие на женщин и тяжесть решений, и даже собственную вину, не могли вообще, в целом, в принципе вызывать сочувствие у него — неудержимого в страсти, привыкшего повелевать женскими душами почти что как душами крепостными, убежденного своевольца, которому никто не указ.
Основания для этого он имел, что говорить. А — право?
Проницательность саркастически-печальной статьи Чернышевского была в том, что, иронизируя и даже обличая, он сумел разглядеть вот что:
«Таковы-то наши «лучшие люди»…»
Да, пусть по заслугам угодившие в скептические кавычки, но ведь и вправду — лучшие. Способные предстать и без кавычек.
Сказав, что тургеневская Ася, отвергнутая господином H.H., погрустит несколько недель или месяцев и затем отдастся новому чувству, Николай Гаврилович добавляет:
«Так, но в том-то и беда, что едва ли встретится ей человек более достойный; в том и состоит грустный комизм отношений нашего Ромео к Асе, что наш Ромео — действительно один из лучших людей нашего общества, что лучше его почти и не бывает людей у нас».
«Действительно один из лучших» — вот как!
А коли это так, то уже невозможно отвязаться от вопроса, таящего в себе и ответ: быть может, сами эти нерешительность, растяпистость, неудачливость — прямое или хотя бы косвенное следствие того факта, что литературные герои Рудин и Бельтов или «настоящие» Надеждин и Огарев лучшие? И другими в это, свое, исторически определенное время лучшие быть просто не могут? Ведь тому же Николаю Ивановичу Надеждину решительно не удается то, что отличнейшим образом удавалось Анатолю Курагину, — удалось бы и с Наташей Ростовой, не вмешайся посторонняя сила. И уж во всяком случае смешных Николай-Иванычевых сомнений блистательный Анатоль, похищая Наташу, не впустит в свою красивую голову и глухое сердце.
Эту стычку циничной, хозяйской, победительной силы с нерасторопной, податливой, беззащитной слабостью Александр Васильевич со временем — правда, уже скорым — увидит, обдумает и представит как художник в своей первой комедии, в «Свадьбе Кречинского».
Но еще много придется ему пережить поистине страшного, прежде чем он прочувствует, найдет и запишет в укромный дневник такие, к примеру, слова:
«Сентябрь 16. Один только раз в жизни случилось мне вдохнуть в себя эту живую, живящую и полевым ароматом благоухающую атмосферу. Живо и глубоко залегло в глубине души это воспоминание. Это было в 1848 или 1849 году (то есть мне было 31 или 32 года), мы были с Луизой в Воскресенском. Был летний день, и начался покос в Пульнове, в Мокром овраге. Мы поехали с нею туда в тележке. Я ходил по покосу, она пошла за грибами. Наступал вечер, парило, в воздухе было мягко, тепло и пахло кошеной травою. Мерно и тихо шуркали косы. Я начал искать ее и невдалеке между двух простых березовых кустов нашел ее на ковре у самовара в хлопотах, чтобы приготовить мне чай и добыть отличных сливок. Солнце было уже низко, прямо против нас. Я сел, поцеловал ее за милые хлопоты и за мысль устроить мне чай. По ее белокурому лицу пробежало то вольное, ясное выражение, которое говорит, что на сердце страх как хорошо. Я вдохнул в себя и воздух и тишину этой картины и подумал — вот где оно мелькает и вьется, как вечерний туман, это счастье, которое один едет искать в Москву, другой в Петербург, третий — в Калифорнии. А оно вот здесь, подле нас, вьется каждый вечер, когда заходит и восходит солнце и вечерний пар оседает на цветы и зелень луговую».
Это будет записано в 1856 году, всего через шесть неполных лет после гибели Луизы. Но это пишет совсем другой человек.
Сами по себе годы неспособны так перестроить душу. Только — перелом.
Есть упоение…
Интересно, однако, вот что, — интересно и почти загадочно.
Тихая мудрость этой дневниковой записи, пришедшая к Сухово-Кобылину далеко не вдруг, — а это, замечу, именно так: пусть даже и вправду мысль-озарение об истинности и неистинности представлений о счастье мелькнула в его голове тогда, в ту далекую просветленную минуту, все равно ведь только теперь он, перестрадавший, осознает и запечатлевает ее, — словом, эта тихая и непросто доставшаяся мудрость доступна, оказывается, и его герою Кречинскому. Авантюристу. Цинику. Игроку… и даже не просто игроку, но шулеру!
Тем не менее.
— Кто вам сказал? — благородно разгорячась, воскликнет Михайло Васильевич Кречинский, едва только старик-деревенщина Муромский позволит себе усомниться в его благосклонности к сельскому житью. — Да я обожаю деревню!.. Деревня летом — рай. Воздух, тишина, покой!.. Выйдешь в сад, в поле, в лес — везде хозяин, все мое. И даль-то синяя и та моя! Ведь прелесть!
Прервем Кречинского ради аналогии, от которой трудно отделаться. Эта синяя даль заметно отдает Ноздревым:
— Вот граница! — сказал Ноздрев. — Все, что ты видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который синеет, и все, что за лесом, все мое.
Почти цитата, хотя не в ней самой по себе дело. В конце концов, «деревня летом — рай» — это уж и вовсе прямое, однако ни о чем, в общем, не говорящее, вероятно, просто запавшее в память заимствование из «Горя от ума». Из совета, который Чацкий подает своему другу Горичу.
Движенья более. В деревню, в теплый край.
Будь чаще на коне. Деревня летом — рай.
Пустяк, случайный обломок чужого текста.
(Правда, усомнишься в собственной категоричности, встретив в «Деле» реплику Тарелкина, брошенную о вышеупомянутом правдолюбце Касьяне Касьяновиче Шиле: «Помилуйте: он карбонарий, он ничего не признает», — тут уж несомненный Фамусов: «Ах! боже мой! Он карбонари… Да он властей не признает». И главное, навряд ли случайное совпадение. Может быть, и три словечка, сказанные Чацким от чистого сердца, залетели в фальшиво-вдохновенный монолог Кречинского как пылинка пародии, как беглое предупреждение, что Михайло Васильевич говорит совсем не то, что действительно думает и ощущает?)
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина"
Книги похожие на "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина"
Отзывы читателей о книге "Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина", комментарии и мнения людей о произведении.